последние изменения и поправки, судебная практика
Вы здесь
ГПК РФ » Раздел IV. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений » Глава 41. Производство в суде кассационной инстанции
СТ 387 ГПК РФ Утратила силу с 1 октября 2019 г. — Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Комментируемая статья устанавливает основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке. К ним относятся существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права.
При этом указанные нарушения должны повлиять на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Надо полагать, что неопределенность в понимании существенных нарушений норм материального и процессуального права не исключает произвольного толкования этих положений. Неясно, например, какие критерии учитываются при отнесении нарушений материального и процессуального права к существенным. Надо полагать, что ст. 387 ГПК РФ подлежит пересмотру. Основанием для отмены в кассационном порядке судебных постановлений должно быть нарушение норм материального и процессуального права, повлекшее принятие незаконного, необоснованного и несправедливого решения. Это могут быть такие нарушения, которые не обеспечивают право каждого на справедливое судебное разбирательство, единообразное толкование и применение законодательства, равный смысл закона для каждого, доступ к судебной защите.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 29 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции», производство в суде кассационной инстанции предназначено для исправления существенных нарушений норм материального права или норм процессуального права, допущенных судами в ходе предшествующего разбирательства дела и повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом публичных интересов.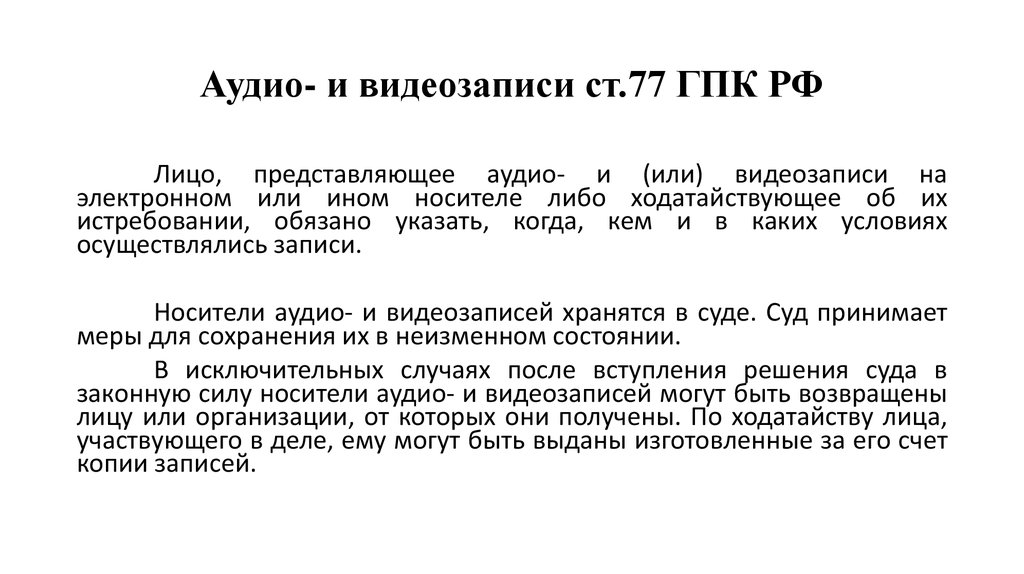
При рассмотрении кассационных жалобы, представления суд кассационной инстанции проверяет только законность судебных постановлений, то есть правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права (ч. 2 ст. 390 ГПК РФ) (п. 1) <1>.
———————————
‹ Статья 386. Утратила силу Вверх Статья 388. Утратила силу ›
Статья 387 ГПК РФ с комментариями
Полный текст ст. 387 ГПК РФ с комментариями. Новая действующая редакция с дополнениями на 2021 год. Консультации юристов по статье 387 ГПК РФ.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
1. Перечень оснований для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке значительно уже перечня оснований для отмены или изменения судебных постановлений в апелляционном порядке (см. ст. 330 ГПК). Из содержания комментируемой статьи следует, что для отмены (изменения) судебных постановлений в кассационном порядке необходимо наличие трех обязательных условий:
1) существенность нарушений норм материального права или норм процессуального права;
2) влияние нарушений на исход дела;
3) невозможность восстановления и защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защиты охраняемых законом публичных интересов без исправления этих нарушений.
Таким образом, существенным нарушением норм материального и процессуального права, являющимся основанием для отмены судебных постановлений в кассационном порядке, в отличие от оснований отмены судебных постановлений в апелляционном порядке, может быть признано не всякое нарушение норм материального и процессуального права из числа указанных в ст. 330 ГПК. Отмена или изменение судебного постановления в кассационном порядке допустимы лишь в случае, если без устранения судебной ошибки, имевшей место в ходе предшествующего разбирательства и повлиявшей на исход дела, невозможны восстановление и защита существенно нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом публичных интересов.
330 ГПК. Отмена или изменение судебного постановления в кассационном порядке допустимы лишь в случае, если без устранения судебной ошибки, имевшей место в ходе предшествующего разбирательства и повлиявшей на исход дела, невозможны восстановление и защита существенно нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом публичных интересов.
2. Использование федеральным законодателем такой оценочной характеристики, как существенность нарушения норм материального или процессуального права, обусловлено тем, что разнообразие обстоятельств, подтверждающих наличие соответствующих оснований, делает невозможным установление их перечня в законе, в связи с чем в каждом конкретном деле оценка характера допущенных нарушений во многом зависит от усмотрения суда кассационной инстанции. В то же время представляется, что к существенным нарушениям норм процессуального права, являющимся основанием для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке, относятся нарушения, перечисленные в ч. 4 ст. 330 ГПК, при наличии которых решение суда первой инстанции в любом случае подлежит отмене в апелляционном порядке (рассмотрение дела судом в незаконном составе; рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство; принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; отсутствие в деле протокола судебного заседания; нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения).
4 ст. 330 ГПК, при наличии которых решение суда первой инстанции в любом случае подлежит отмене в апелляционном порядке (рассмотрение дела судом в незаконном составе; рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство; принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело; отсутствие в деле протокола судебного заседания; нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения).
3. По нашему мнению, существенное нарушение норм процессуального права имеет место и в тех случаях, когда дело рассмотрено с нарушением правил подведомственности и подсудности, поскольку «нарушение установленных процессуальным законом правил судебной подведомственности и подсудности всегда приводит к вынесению неправосудного (неправильного) решения, что должно служить основанием для его отмены». В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, выраженной в определении от 15 января 2009 года N 144-О-П, решение, принятое с нарушением правил подсудности, не может быть признано правильным, поскольку оно — вопреки статье 47 (ч.1) Конституции Российской Федерации, закрепляющей право каждого на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, и ст. 56 (ч.3) Конституции Российской Федерации, не допускающей ограничение этого права ни при каких обстоятельствах, — принимается судом, не уполномоченным в силу закона на рассмотрение данного дела, что является существенным (фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела и искажающим саму суть правосудия. Разрешение дела с нарушением правил подсудности не отвечает и требованию справедливого правосудия, поскольку суд, не уполномоченный на рассмотрение того или иного конкретного дела, не является — по смыслу статей 46 (ч.1) и 47 (ч.1) Конституции Российской Федерации и соответствующих общепризнанных принципов и норм международного права — законным судом, а принятые в результате такого рассмотрения судебные акты не обеспечивают гарантии прав и свобод в сфере правосудия.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, выраженной в определении от 15 января 2009 года N 144-О-П, решение, принятое с нарушением правил подсудности, не может быть признано правильным, поскольку оно — вопреки статье 47 (ч.1) Конституции Российской Федерации, закрепляющей право каждого на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, и ст. 56 (ч.3) Конституции Российской Федерации, не допускающей ограничение этого права ни при каких обстоятельствах, — принимается судом, не уполномоченным в силу закона на рассмотрение данного дела, что является существенным (фундаментальным) нарушением, влияющим на исход дела и искажающим саму суть правосудия. Разрешение дела с нарушением правил подсудности не отвечает и требованию справедливого правосудия, поскольку суд, не уполномоченный на рассмотрение того или иного конкретного дела, не является — по смыслу статей 46 (ч.1) и 47 (ч.1) Конституции Российской Федерации и соответствующих общепризнанных принципов и норм международного права — законным судом, а принятые в результате такого рассмотрения судебные акты не обеспечивают гарантии прав и свобод в сфере правосудия.
_______________
См.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М., 2010. С. 457.
ВКС РФ. 2009. N 4.
4. О существенных нарушениях норм материального права можно говорить в тех случаях, когда вступившее в законную силу судебное постановление нарушает права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами России. Нарушение судебным постановлением иных прав (с учетом их важности для конкретного лица, характера нарушения) также может быть признано существенным нарушением норм материального права.
5. При оценке существенности нарушений норм материального и процессуального права следует также учитывать, что принцип правовой определенности предполагает, что суд не вправе пересматривать вступившее в законную силу постановление только в целях проведения повторного слушания и получения нового судебного постановления. Иная точка зрения суда кассационной инстанции на то, как должно было быть разрешено дело, не может являться поводом для отмены или изменения судебного постановления нижестоящего суда.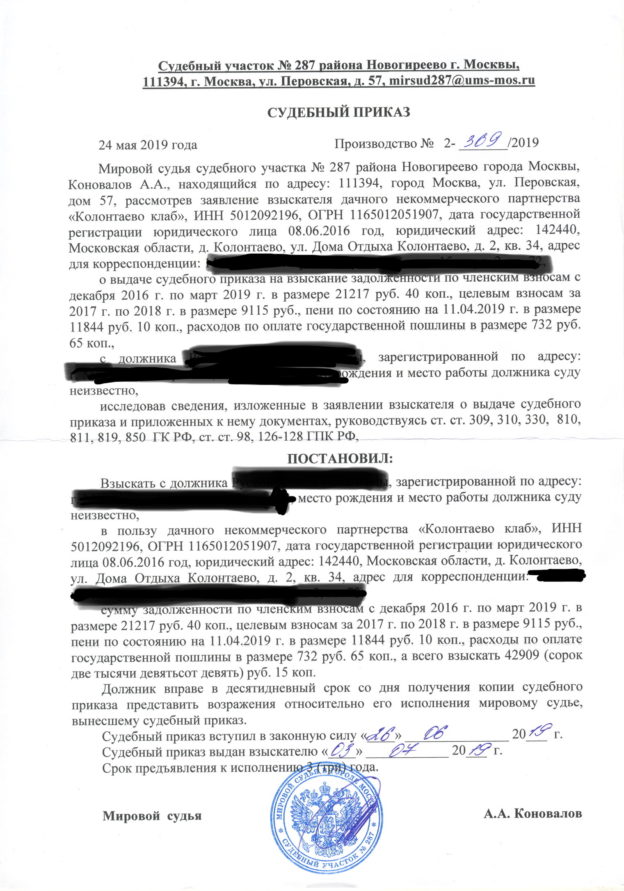
Консультации и комментарии юристов по ст 387 ГПК РФ
Если у вас остались вопросы по статье 387 ГПК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.
Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.
Yukos Universal против России, Решение Гаагского апелляционного суда (неофициальный английский перевод), 18 февраля. 2020
Насколько это уместно здесь, Трибунал следовал нижеследующим шагам в своих рассуждениях, ведущих к определению убытков, начисленных HVY:
a. Датой экспроприации инвестиций HVY («дата экспроприации инвестиций Истцов») является 19 декабря 2004 г., дата, когда ЮНГ была продана с аукциона и в результате которой произошла существенная и необратимая экспроприация собственности HVY.
б. Если, как в данном случае, имела место неправомерная экспроприация, дата оценки («дата изъятия»), предусмотренная в Статье 13 ДЭХ, не применяется. В случае незаконной экспроприации инвестор может выбрать между датой экспроприации (19 декабря 2004 г.) или датой арбитражного (окончательного) решения в качестве даты оценки для расчета убытков (Окончательное решение № 1765 и 1769 г.). Для целей определения ущерба Трибунал исходит из того, что датой окончательного решения является 30 июня 2014 года. Таким образом, Трибунал должен определить общий ущерб на обе возможные даты, при этом HVY имеет право на получение наибольшей суммы за вычетом 25% за « сопутствующая вина» (Окончательное решение № 1777). (Поскольку Третейский суд в конечном итоге пришел к выводу, что расчет по состоянию на 30 июня 2014 г. обеспечивает наибольшую сумму убытков, и присудил возмещение убытков на этой основе, ниже будут изложены только выводы и расчеты, относящиеся к этой дате оценки, Апелляционный суд).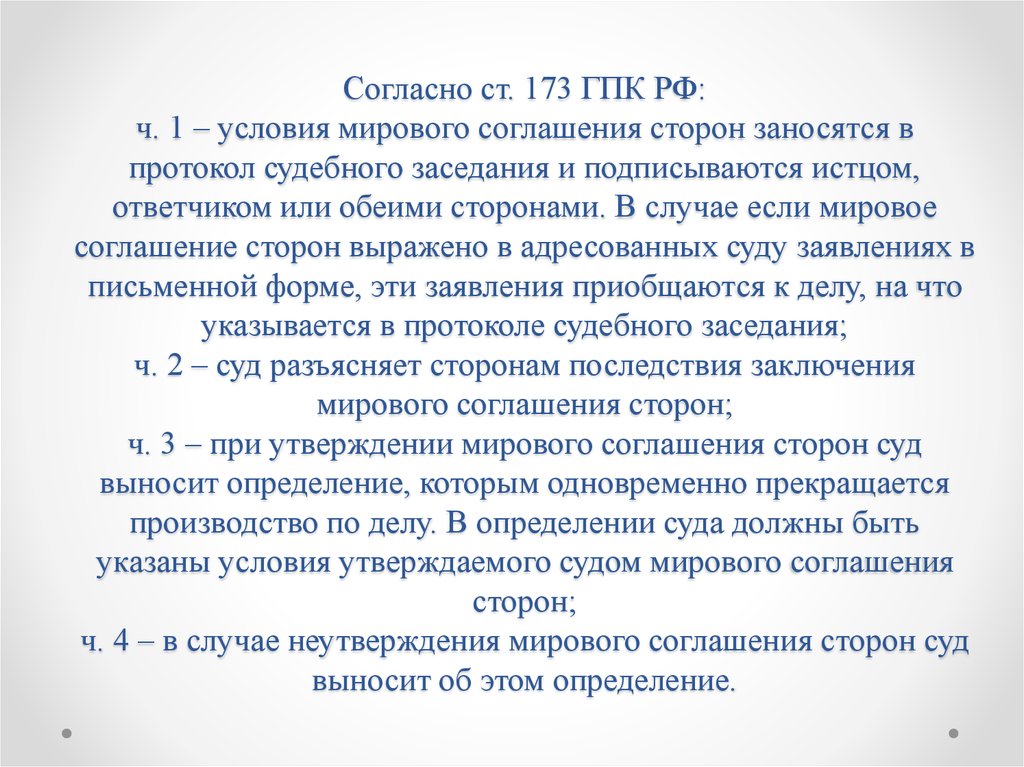
в. HVY имеет право на следующие компоненты ущерба: (1) стоимость акций ЮКОСа на дату оценки, (2) стоимость дивидендов, которые ЮКОС выплатил бы HVY до даты оценки, если бы экспроприация не состоялась. («но для экспроприации ЮКОСа») и (3) «до присуждения простых процентов на эти суммы» (Окончательное решение № 1778). Возможный листинг акций ЮКОСа на Нью-Йоркской фондовой бирже и возможное слияние ЮКОСа и Сибнефти следует исключить из оценки ущерба (Окончательное решение № 1779).-1780).
д. В н.у.к. 1782-1790, Трибунал обсуждает первую составляющую ущерба, стоимость акций ЮКОСа. HVY предложила три разных метода оценки: метод DCF (дисконтированный денежный поток), метод сопоставимых компаний и метод сопоставимых сделок. Кроме того, HVY и их эксперт (г-н Качмарек из Navigant, далее: «Качмарек») провели ряд вторичных расчетов в поддержку своих трех основных методов. Эти различные оценки показаны в таблице в Окончательном решении (№ 1782).
эл. Эксперт от Российской Федерации профессор Доу (далее «Доу») не представил собственного метода оценки ЮКОСа, но представил скорректированную версию «метода сопоставимых компаний». Скорректированный таким образом расчет Dow составляет 67 862 миллиарда долларов США по состоянию на 21 ноября 2007 года. Dow заявила, что это «может быть полезной оценкой». Предполагая, что структура капитала ЮКОСа составляет 90/10, это соответствует стоимости собственного капитала ЮКОСа по состоянию на 21 ноября 2007 г. примерно в 61 076 миллиардов долларов США (Окончательное решение № 1783).
Скорректированный таким образом расчет Dow составляет 67 862 миллиарда долларов США по состоянию на 21 ноября 2007 года. Dow заявила, что это «может быть полезной оценкой». Предполагая, что структура капитала ЮКОСа составляет 90/10, это соответствует стоимости собственного капитала ЮКОСа по состоянию на 21 ноября 2007 г. примерно в 61 076 миллиардов долларов США (Окончательное решение № 1783).
ф. «Скорректированная» цифра сопоставимых компаний является наилучшей доступной оценкой стоимости ЮКОСа на 21 ноября 2007 г., если бы не экспроприация» (Окончательное решение № 1784). Другие методы, предложенные HVY, в том числе метод DCF и вторичные расчеты, не считаются Третейским судом достаточно надежными по нескольким причинам (Окончательное решение № 1785-1786).
г. Затем Третейский суд рассмотрел (Окончательное решение № 1787):
«В отличие от всех других методов, описанных выше, Третейский суд в определенной степени доверяет методу сопоставимых компаний как средству определения стоимости ЮКОСа.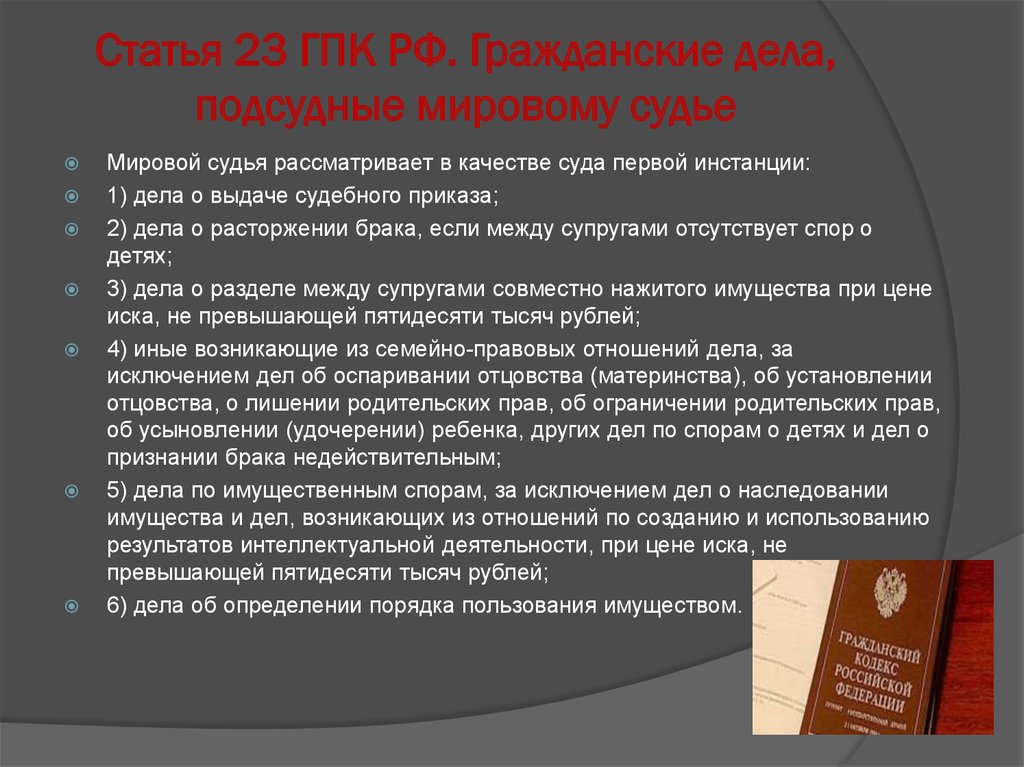 В то время как профессор Доу заявил на Слушании, что он не провел анализ, достаточный для того, чтобы полностью подтвердить цифру, полученную в результате его исправлений к подходу Истцов к сопоставимым компаниям, он согласился с тем, что это «может быть полезной оценкой». метод в данных обстоятельствах является наиболее разумным подходом к определению стоимости ЮКОСа по состоянию на 21 ноября 2007 г. и, следовательно, отправной точкой для дальнейшего анализа Третейского суда».
В то время как профессор Доу заявил на Слушании, что он не провел анализ, достаточный для того, чтобы полностью подтвердить цифру, полученную в результате его исправлений к подходу Истцов к сопоставимым компаниям, он согласился с тем, что это «может быть полезной оценкой». метод в данных обстоятельствах является наиболее разумным подходом к определению стоимости ЮКОСа по состоянию на 21 ноября 2007 г. и, следовательно, отправной точкой для дальнейшего анализа Третейского суда».
час. Чтобы скорректировать стоимость ЮКОСа на соответствующую дату оценки в ноябре 2007 года, Третейский суд использовал «Индекс РТС нефти и газа». Этот индекс основан на акциях, торгуемых на Московской бирже, включая акции девяти нефтегазовых компаний. Обе стороны ссылались на индекс РТС Нефти и Газа как на надежный индикатор изменения стоимости российских нефтегазовых компаний (Итоговое решение № 1788).
я. Таким образом, стоимость ЮКОСа на 21 ноября 2007 г. (61 076 млрд долл. США) должна быть проиндексирована на дату оценки (30 июня 2014 г. ) с использованием индекса РТС нефти и газа (Окончательное решение № 1789).).
) с использованием индекса РТС нефти и газа (Окончательное решение № 1789).).
л. Для расчета ущерба, состоящего из упущенных дивидендов, Третейский суд берет в качестве отправной точки «упущенные денежные потоки ЮКОСа (т. е. свободный денежный поток на капитал)», рассчитанный Качмареком по состоянию на 21 ноября 2004 г. и 21 ноября 2007 г. представлены в первом отчете Качмарека как основанные на «фактической исторической информации», в отличие от денежных потоков, включенных в модель DCF Качмарека за период с 21 ноября 2007 г. до конца 2015 г., которые основаны на «прогнозах». и прогнозы с использованием информации до этого периода (Окончательное решение № 1793). В свой второй отчет Качмарек включил «потерянные денежные потоки» за период 2004-2011 гг., которые представлены как основанные на «фактической исторической информации», в отличие от денежных потоков, включенных в модель DCF Качмарека за период с 2012 г. до конца 2019 г. которые основаны на «прогнозах и прогнозах» с использованием информации, полученной до этого периода (Окончательное решение № 1794).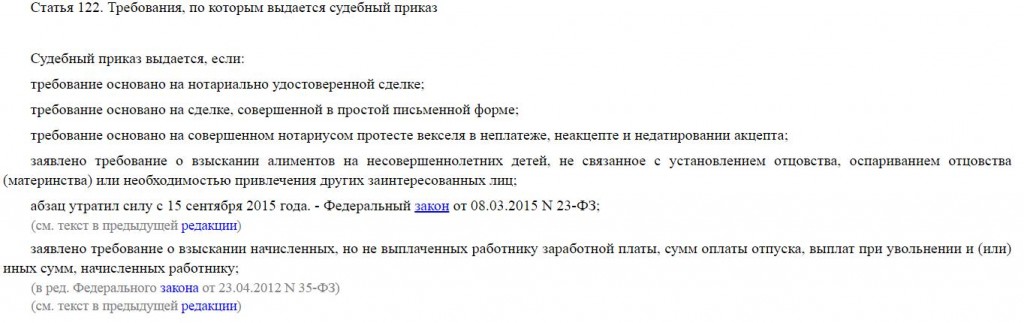
к. За период с 2012 по 2014 год Трибунал мог определить соответствующие цифры, используя метод Качмарека, используя данные, найденные в других отчетах Качмарека. На основании этих данных и метода, которые более подробно изложены в п. 1796 Окончательного решения и которые указаны в Таблицах T4-T6, прилагаемых к Окончательному решению, общая сумма упущенных дивидендов с 2004 г. по 30 июня 2014 г. согласно модели Качмарека составляет 67 213 млрд долларов США (Окончательное решение № 1795-1797). Для Трибунала это было отправной точкой для расчета дивидендов, которые HVY получила бы в (гипотетической) ситуации, когда экспроприация не имела места (Окончательное решение № 1798).
л. Хотя цифры Качмарека частично основаны на исторических данных («и, таким образом, не страдают от некоторых ошибок, связанных с прогнозами и прогнозами»), некоторые критические замечания, сделанные Доу в отношении модели DCF Качмарека, также применимы к расчету дивидендов, например: упрек в том, что HVY занижает транспортные и операционные расходы ЮКОСа (Окончательное решение № 1799-1801).
м. Используя электронные таблицы, предоставленные Доу во втором отчете, можно рассчитать скорректированный «свободный денежный поток к собственному капиталу» за соответствующие годы. Хотя Доу прямо не поддержал эту исправленную версию как свою точку зрения на «свободный денежный поток ЮКОСа к собственному капиталу», ясно, что цифра, приведенная здесь, больше соответствует его точке зрения. На основании этого скорректированного метода общая сумма дивидендов ЮКОСа за период с 2004 г. по первое полугодие 2014 г. составляет 49 293 млрд долларов США (см. Таблицу Т3 Итогового решения, сумма во втором столбце) (Окончательное решение № 1802). ).
н. Необходимо внести ряд дополнительных поправок в дополнение к поправкам Dow, поскольку они не учитывали все риски для движения денежных средств Юкоса, которые возникли бы, если бы он смог продолжить свою деятельность. Следует внести поправки на: риск существенного повышения налогов, риск, связанный с дивидендной политикой ЮКОСа, а также риски, связанные со сложной и непрозрачной офшорной структурой, созданной для направления заработанных ЮКОСом денег за границу.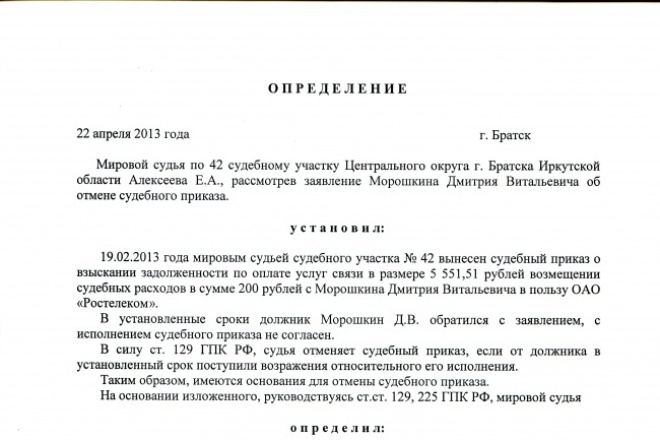 В результате этих корректировок общая сумма дивидендов ЮКОСа за период с 2004 г. по первое полугодие 2014 г. составляет 45 миллиардов долларов США (Окончательное решение № 1803-1812).
В результате этих корректировок общая сумма дивидендов ЮКОСа за период с 2004 г. по первое полугодие 2014 г. составляет 45 миллиардов долларов США (Окончательное решение № 1803-1812).
о. Стоимость ЮКОСа по состоянию на 21 ноября 2007 г. (61 076 млрд долл. США), индексированная с помощью индекса РТС нефти и газа, составляет 42 625 млрд долл. США по состоянию на 30 июня 2014 г. Стоимость 70,5% доли HVY в нем составляет 30 049 млрд долл. США (Окончательное решение № 1821). и 1822 г.).
стр. Дивиденды ЮКОСа за период с 2004 г. по первое полугодие 2014 г. включительно составляют 45 млрд долл. США, включая 51 981 млрд долл. США с начисленными процентами. Доля HVY в размере 70,5% составляет 36 645 миллиардов долларов США (Окончательные решения № 1823 и 1824).
кв. Таким образом, общий ущерб HVY в результате нарушения статьи 13 ДЭХ по состоянию на 30 июня 2014 года составляет (30 049 млрд долларов США + 36 645 млрд долларов США =) 66 694 млрд долларов США (Окончательное решение № 1825). Уменьшенный на 25% по вине соучастника, ущерб составляет 50 020 867 798 долларов США (Окончательное решение № 1827).
Уменьшенный на 25% по вине соучастника, ущерб составляет 50 020 867 798 долларов США (Окончательное решение № 1827).
Основы судопроизводства в России и европейские стандарты правосудия
Реферат
Принципы судопроизводства составляют основу процессуальной отрасли права и отражают ее качественные особенности. Их значение проявляется в законодательной сфере, когда законодатель в процессе формулирования и принятия новых процессуальных норм опирается на систему принципов для устранения противоречий и коллизий; в правоохранительной сфере, в случае восполнения пробелов по аналогии закона; и т. д. Система принципов постоянно трансформируется под влиянием различных факторов. В настоящем исследовании рассматривается трансформация системы принципов судопроизводства под влиянием факторов. В статье выделены формы трансформации системы процессуальных принципов для достижения соответствия требованиям современного общества, права и государства. Авторы указывают на законодательное расширение сферы действия ряда принципов, существовавших в судопроизводстве, но не проявившихся. Можно упомянуть принцип процессуального равенства и состязательности разбирательства. В исследовании также указывается на нивелирование действия тех процессуальных принципов, которые не укладываются в систему конвенциональных норм, поскольку были характерны только для гражданского судопроизводства советского периода. К этим принципам относятся принцип активной роли суда и принцип объективной истины. Акцентируется внимание на появлении новых принципов судопроизводства. В эту группу принципов входят принцип правовой определенности, принцип процессуальной экономии, принцип добросовестного распоряжения процессуальными правами.
Можно упомянуть принцип процессуального равенства и состязательности разбирательства. В исследовании также указывается на нивелирование действия тех процессуальных принципов, которые не укладываются в систему конвенциональных норм, поскольку были характерны только для гражданского судопроизводства советского периода. К этим принципам относятся принцип активной роли суда и принцип объективной истины. Акцентируется внимание на появлении новых принципов судопроизводства. В эту группу принципов входят принцип правовой определенности, принцип процессуальной экономии, принцип добросовестного распоряжения процессуальными правами.
Ключевые слова: правосудиепринципыарбитражная практикаЕвропейский суд по правам человека правоприменение
Введение
Понятие «принцип права» (от лат.
принцип
значение
начало
,
источник
,
что было в начале
), разработанная в теории права, служит основой для определения понятия принципа гражданского процессуального права.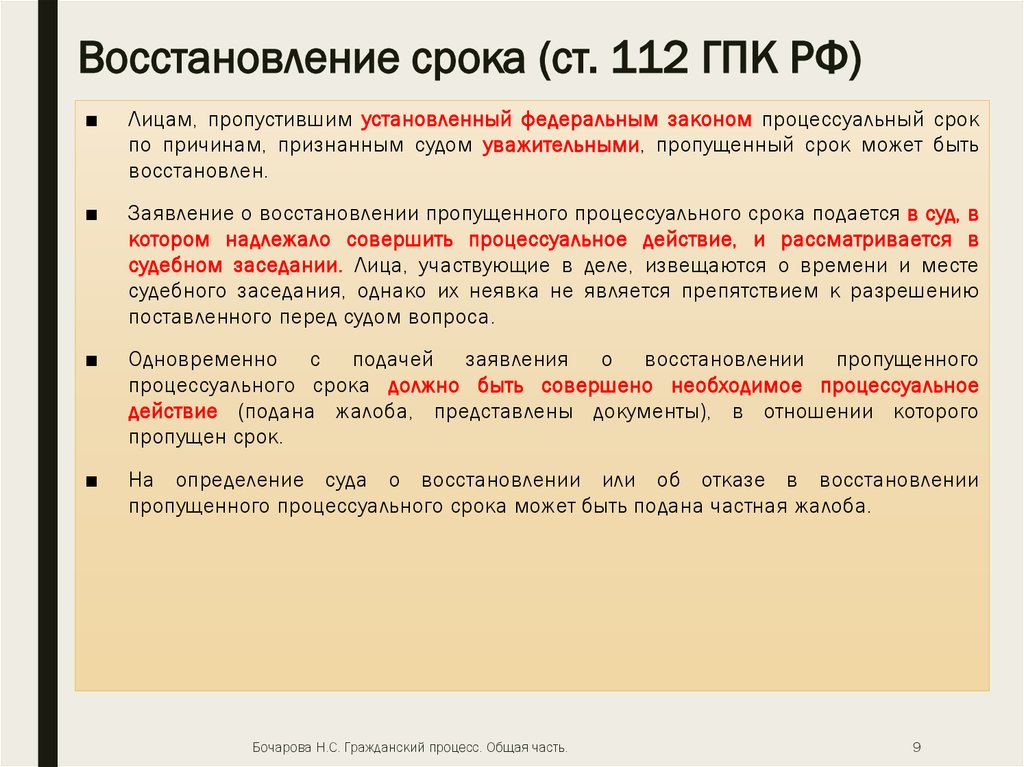 В развитых правовых системах принципы представляют собой своеобразные «сгустки» правовой ткани, не только раскрывающие наиболее характерные черты содержания этой системы, но и выступающие в качестве весьма значимых регулятивных элементов в структуре права (O’Hare & Hill). , 2000). Как глубинные элементы они могут направлять развитие и функционирование всей правовой системы, определять направления судебной и иной юридической практики, способствовать устранению пробелов в праве, отмене устаревших и принятию новых правовых норм.
В развитых правовых системах принципы представляют собой своеобразные «сгустки» правовой ткани, не только раскрывающие наиболее характерные черты содержания этой системы, но и выступающие в качестве весьма значимых регулятивных элементов в структуре права (O’Hare & Hill). , 2000). Как глубинные элементы они могут направлять развитие и функционирование всей правовой системы, определять направления судебной и иной юридической практики, способствовать устранению пробелов в праве, отмене устаревших и принятию новых правовых норм.
Из этой общетеоретической концепции принципов следует, что принципы гражданского процессуального права как правовой системы являются своего рода «каркасом», стержневой основой, исходными принципами процессуальной отрасли, отражающими ее основные качественные признаки. Их важность проявляется в самых разных сферах:
— правотворчество, когда законодатель при формулировании и принятии новых процессуальных норм опирается на систему принципов, чтобы «вписать» новую норму в уже существующие рамки принципов во избежание противоречий и коллизий;
— правоприменение, когда применение процессуальных норм осуществляется с учетом принципов отрасли. Система принципов наиболее ярко проявляется в случае восполнения законодательных пробелов путем применения аналогии права;
Система принципов наиболее ярко проявляется в случае восполнения законодательных пробелов путем применения аналогии права;
— научная (доктринальная) сфера, позволяющая ученым при изучении функционирования различных институтов гражданского процессуального права и решении различных теоретических и практических вопросов использовать систему принципов в арсенале инструментов, определяющих границы предполагаемых преобразований, нововведения, исключающие абсурдные, противоречивые и необоснованные предложения.
Постановка проблемы
Несмотря на наличие в некотором роде свойств устойчивости, определенности и консерватизма, система принципов, как и всякая система, динамична и может трансформироваться и развиваться под воздействием различных факторов. Одним из таких катализаторов трансформации системы принципов являются нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – Конвенция, Европейская конвенция) и постановления Европейского суда по правам человека ( именуемые в дальнейшем Суд, Европейский суд, ЕСПЧ), содержащие толкования норм Конвенции (Максуров, 2018).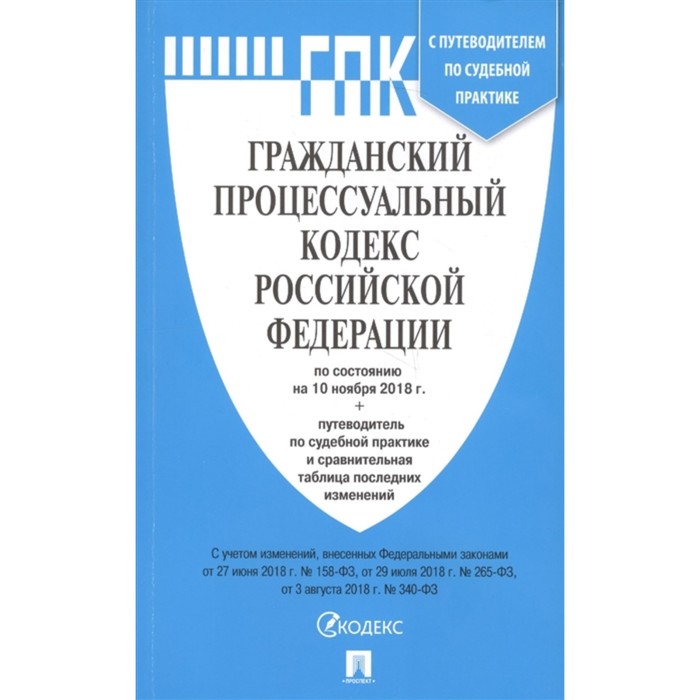 С момента вступления России в Европейскую социальную хартию в 1996 и ратификации Конвенции 30 мая 1998 г., система принципов национального судопроизводства находилась в процессе трансформации и гармонизации с европейскими стандартами правосудия (Лаузикас, Некропиус, Микеленас, 2003). Это обуславливает необходимость исследования трансформации системы принципов судопроизводства, выделения форм трансформации современных принципов и оценки последствий таких изменений (Рехтина, 2018).
С момента вступления России в Европейскую социальную хартию в 1996 и ратификации Конвенции 30 мая 1998 г., система принципов национального судопроизводства находилась в процессе трансформации и гармонизации с европейскими стандартами правосудия (Лаузикас, Некропиус, Микеленас, 2003). Это обуславливает необходимость исследования трансформации системы принципов судопроизводства, выделения форм трансформации современных принципов и оценки последствий таких изменений (Рехтина, 2018).
Исследовательские вопросы
За почти двадцать лет таких преобразований существенные изменения претерпели такие блоки процессуального права, как система обжалования судебных актов, система исполнительного производства; также улучшились гарантии обеспечения права на справедливое судебное разбирательство и доступ к правосудию.
Этот процесс неизбежно повлиял на трансформацию системы принципов отправления правосудия в Российской Федерации (Максуров, 2018), реализуемую по трем основным направлениям:
1 – расширение сферы действия ряда принципов, существовавших в гражданском судопроизводстве, но не проявившихся в той степени, которая соответствует нормам Конвенции, а также изменение содержания и контекстуального значения ранее существовавшего принципа, включая его терминологическое обозначение.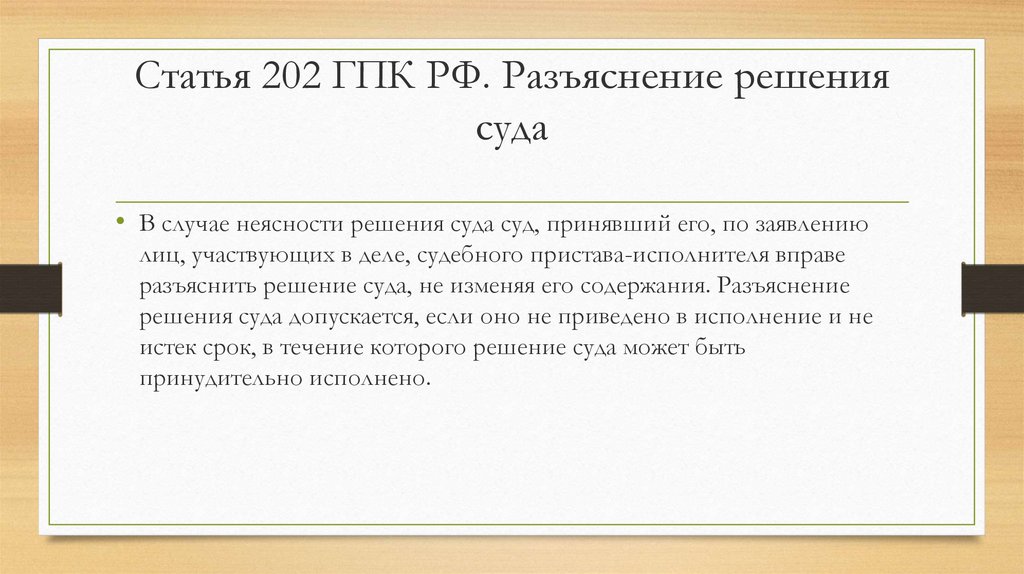
Такое закрепление принципов осуществляется в нормах процессуального права путем количественного увеличения текстуального закрепления элементов, посредством которых этот принцип реализуется в гражданском судопроизводстве, и введения в научный оборот новых терминов и определений, отвечающих современным европейским критерии.
Например, усиление принципа процессуального равенства и состязательности, гарантированного ст. 6 Конвенции, предоставляя сторонам равные возможности для представления доказательств, доводов и комментариев по ним (Ruiz-Mateos (Ruiz-Mateos) против Испании: Постановление Европейского суда по правам человека от 23 июня 1993 г. (жалоба № № 12952/87), а также гарантирует реализацию дела в суде в разумных пределах, не ставящих ни одну из сторон в более выгодное положение по отношению к другой стороне (Ноймайстер против Австрии): Постановление Европейского суда Права человека по состоянию на 27 июня 19 г.68 (жалоба N 1936/63) произошло в связи с наделением участников процесса равными процессуальными правами (ст. 35 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ, ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ). РФ), в том числе в судах проверочных инстанций (ст. 320, 336, 391.1 ГПК РФ, ст. 257, 273, 292 АПК РФ), нивелируя активную роль суда в процесса и в то же время расширяя принцип диспозиции (ст. 39, 173 ГПК РФ, ст. 49, Ч. 15 АПК РФ).
35 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ, ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ). РФ), в том числе в судах проверочных инстанций (ст. 320, 336, 391.1 ГПК РФ, ст. 257, 273, 292 АПК РФ), нивелируя активную роль суда в процесса и в то же время расширяя принцип диспозиции (ст. 39, 173 ГПК РФ, ст. 49, Ч. 15 АПК РФ).
Например, в деле «Ванян против России» Европейский суд признал нарушение ст. 6 Конвенции и принцип состязательности, что означает предоставление стороне возможности узнать и прокомментировать любые доводы или доказательства, представленные другой стороной, в том числе при рассмотрении дела вышестоящим судом, как пояснила одна из сторон в ходе судебного заседания. рассмотрение дела вышестоящим судом в отсутствие другой стороны (Ванян против России): Постановление Европейского суда по правам человека от 15 декабря 2005 г. (жалоба № 53203/99).
Принцип верховенства закона и доступности правосудия в Российской Федерации (ст. 6 Конвенции), на котором строится демократическое общество, по мнению ЕСПЧ, подчеркивает исключительную роль судебной власти в отправлении правосудия, отражая общее наследие государств-участников Конвенции (Golder v. United Kingdom (жалоба № 4451/70): Постановление ЕСПЧ от 21 февраля 1975 г.), расширенное путем закрепления в процессуальном законодательстве гарантий судебной защиты любых прав и законных интересов, право возбуждать, уведомлять и участвовать в судах первой и проверочной инстанций.
United Kingdom (жалоба № 4451/70): Постановление ЕСПЧ от 21 февраля 1975 г.), расширенное путем закрепления в процессуальном законодательстве гарантий судебной защиты любых прав и законных интересов, право возбуждать, уведомлять и участвовать в судах первой и проверочной инстанций.
Например, в деле Мокрушина против России ЕСПЧ указал, что неуведомление, а также ненадлежащее уведомление о рассмотрении дела в суде второй инстанции и, как следствие, неучастие в пересмотре решения суда дело является нарушением конвенционального права на доступ к правосудию, гарантированного ст. 6 Конвенции (Мокрушина против Российской Федерации (жалоба № 23377/02): Постановление ЕСПЧ от 05.10.2006).
Терминологически трансформированы принцип гласности (принцип гласности судопроизводства), принцип объективной истины (принцип судебной, формальной, юридической истины) и другие принципы.
2 – исключение или нивелирование действия тех процессуальных принципов, которые не укладываются в систему конвенционных норм, поскольку они были характерны только для гражданского судопроизводства советского периода.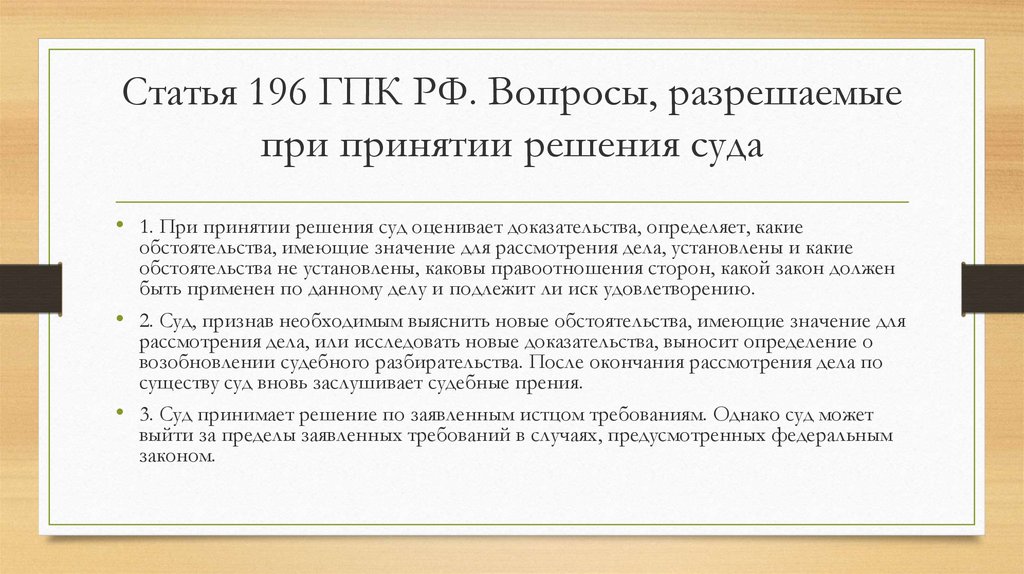 К этим принципам относятся принцип активной роли суда, как в суде первой инстанции, так и в суде проверочных инстанций, принцип описательности судебной системы, принцип объективной истины, гиперболическое значение принципа социалистической законности (Lauzikas et al., 2003).
К этим принципам относятся принцип активной роли суда, как в суде первой инстанции, так и в суде проверочных инстанций, принцип описательности судебной системы, принцип объективной истины, гиперболическое значение принципа социалистической законности (Lauzikas et al., 2003).
Например, в решениях Европейского суда по правам человека, адресованных как непосредственно Российской Федерации, так и другим странам с аналогичным механизмом проверки, неоднократно указывалось, что «рассмотрение дел в порядке надзора в Российской Федерации не может быть инициировано физическое лицо, подпадает под дискреционное рассмотрение законно назначенных официальных лиц. Таким образом, повторное рассмотрение дела не является эффективным средством правовой защиты по смыслу п. 1 ст. 35 Конвенции (Решение Европейского суда по правам человека о приемлемости жалобы № 47033/99 поданной Тумилович Л.Ф. против Российской Федерации от 23 июня 1999 г.).
3 – появление новых принципов гражданского судопроизводства, не имевших ранее нормативного выражения или представляющих собой частичное закрепление отдельных элементов, свойств и признаков. В эту группу принципов входят принцип правовой определенности (Мусин, 2015), принцип
res judicata
(Вишневский, 2013), что означает невозможность пересмотра окончательного судебного решения, принятого по делу, принцип процессуальной экономии, принцип справедливого распоряжения процессуальными правами (Баловнев, 2017), принцип процессуальной справедливости (Шамшурин, 2016) . Эти принципы, несмотря на отсутствие посвященной им конкретной нормы в процессуальных кодексах, имеют нормативное закрепление определенных свойств, признаков и элементов.
В эту группу принципов входят принцип правовой определенности (Мусин, 2015), принцип
res judicata
(Вишневский, 2013), что означает невозможность пересмотра окончательного судебного решения, принятого по делу, принцип процессуальной экономии, принцип справедливого распоряжения процессуальными правами (Баловнев, 2017), принцип процессуальной справедливости (Шамшурин, 2016) . Эти принципы, несмотря на отсутствие посвященной им конкретной нормы в процессуальных кодексах, имеют нормативное закрепление определенных свойств, признаков и элементов.
Например, принцип правовой определенности, вытекающий из смысла ст. 6 Конвенции, закрепляющая право на справедливое судебное разбирательство, является одним из основополагающих аспектов верховенства закона и требует соблюдения принципа
res judicata
, т. е. принцип недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела. В прецедентном для России решении Европейского суда по правам человека по делу Брумареску против Румынии от 28 октября 1999 г. указано, что вмешательство в судебный процесс должностных лиц, не ограниченное сроками, рассматривается как нарушение принципа правовой определенности и, следовательно, права на справедливое судебное разбирательство (Вишневский, 2013).
указано, что вмешательство в судебный процесс должностных лиц, не ограниченное сроками, рассматривается как нарушение принципа правовой определенности и, следовательно, права на справедливое судебное разбирательство (Вишневский, 2013).
Из этого принципа следует, что ни одна из сторон не может требовать пересмотра окончательного и вступившего в силу постановления только в целях проведения повторного слушания дела и получения нового постановления. Повторное рассмотрение не может считаться скрытой формой обжалования, при этом только возможное наличие двух точек зрения по одному вопросу не может быть основанием для повторного рассмотрения. Отклонения от этого принципа оправданы только тогда, когда они обязательны в силу обстоятельств существенного и непреодолимого характера. Недопустимо, чтобы окончательное, имеющее обязательную юридическую силу судебное решение не имело законной силы в ущерб одной из сторон (постановление Европейского суда по правам человека от 07.07.2003 г. по делу Рябых против Российской Федерации).
Принцип правовой определенности, в том числе res judicata , проявляется в таких элементах, как установление срока пресечения в апелляционном, кассационном и надзорном порядке (ст. 320, 336, 391.1 ГПК РФ, ст. 259, 276, 291.2., 308.1. УК РФ). РФ), уточнение оснований отмены судебных актов (ст. 387, 391.9 ГПК РФ, ст. 288, 291.11., 308.8 АПК РФ), наличие последней инстанции о пересмотре судебного акта в порядке надзора на национальном уровне в лице Президиума Верховного Суда Российской Федерации (ст. 391.1 ГПК РФ, ст. 308.9. АПК РФ).
Запрет злоупотребления правом установлен ст. 17 Конвенции, делает базовыми принципами отправления правосудия положение о справедливом применении процессуальных прав (Haferkamp, 2011). Этот принцип является аксиоматичным и проявляется в установлении и акцентировании внимания в процессуальных кодексах на добросовестном использовании прав лицами, участвующими в деле, недопущении злоупотребления этими правами (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ; Часть 2 статьи 41, часть 5 статьи 159АПК РФ; ч. 6 и 7 ст. 45 КоАП РФ), а также меры ответственности за процессуальные нарушения (ст. 99 ГПК РФ; ст. 111 АПК РФ; ч. 11 ст. ЦАП РФ).
6 и 7 ст. 45 КоАП РФ), а также меры ответственности за процессуальные нарушения (ст. 99 ГПК РФ; ст. 111 АПК РФ; ч. 11 ст. ЦАП РФ).
Масштабы и многообразие форм недобросовестного поведения субъектов процессуальных отношений и неблагоприятных последствий, как для самих участников, так и всей судебной системы, отсутствие доступных превентивных процессуальных средств, как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 21 «О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел», обуславливают разработку эффективного механизма предупреждения, выявления и пресечение злоупотреблений процессуальными правами, в том числе в целях гармонизации с европейскими принципами и стандартами правосудия (Busnelli, Comandé, & Cousy, 2000).
Появление новых процессуальных принципов подтверждается их активным использованием и толкованием в актах высших судебных органов. Например, Конституционный Суд РФ в постановлении от 19 января 2017 г.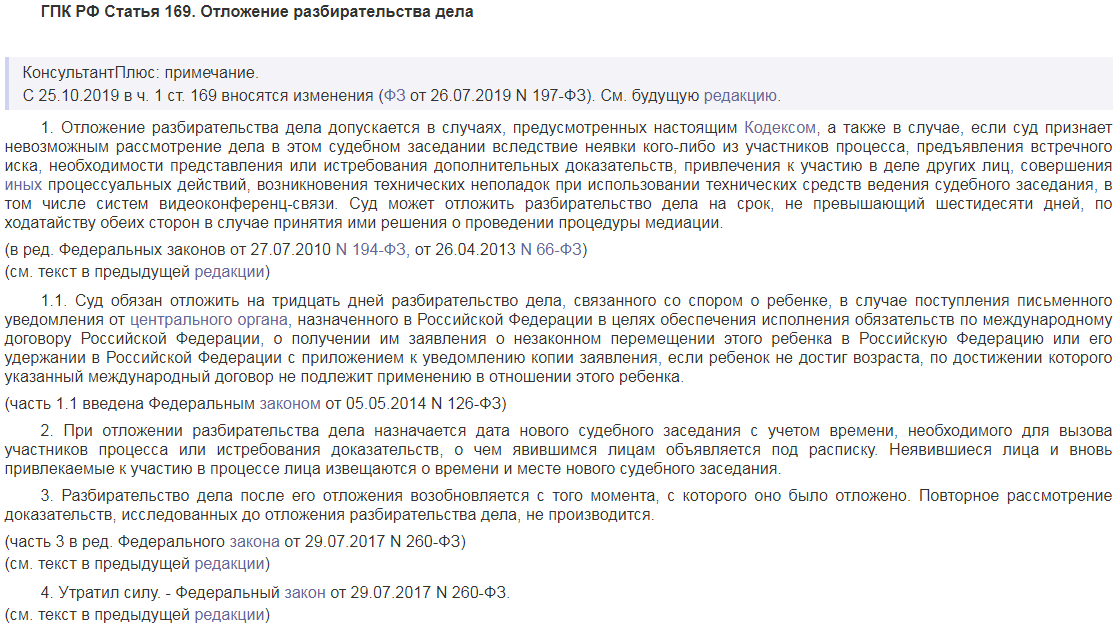 № 1-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения по делу ОАО «НК «ЮКОС» против России в связи с запрос Министерства юстиции Российской Федерации», при отказе в исполнении настоящего Акта сослался на пункт 4.1. на принципах правового равенства и справедливости, выраженных в ст. 17 (часть 3), 19(части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, и вытекающий из них принцип соразмерности (соразмерности, пропорционального равенства), обеспечивающий одинаковый объем правовых гарантий всем налогоплательщикам…».
№ 1-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения по делу ОАО «НК «ЮКОС» против России в связи с запрос Министерства юстиции Российской Федерации», при отказе в исполнении настоящего Акта сослался на пункт 4.1. на принципах правового равенства и справедливости, выраженных в ст. 17 (часть 3), 19(части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, и вытекающий из них принцип соразмерности (соразмерности, пропорционального равенства), обеспечивающий одинаковый объем правовых гарантий всем налогоплательщикам…».
Также в пункте 4.2. настоящего постановления имеется ссылка на принцип правовой определенности в виде указания на то, что «выявление Конституционным Судом Российской Федерации конституционно-правового смысла статьи 113 НК РФ не не влечет пересмотра вступивших в силу в отношении общества итоговых судебных актов и, соответственно, не затрагивает данный аспект гарантий правовой определенности».0003
В другом постановлении в п. 4.1. Конституционный Суд РФ указал, что абстрактный характер нормативности, заложенный в понятие «основные принципы российского права», изначально предопределен высокой степенью обобщения общественных отношений, которые регулируются на основе этих принципов, и поэтому не может считаться недопустимым отступлением от принципа правовой определенности, особенно с учетом того, что этот принцип уточняется федеральным законодателем при формулировке иных оснований отмены (отказа в выдаче исполнительного листа) арбитражное решение.
Верховный Суд Российской Федерации при формулировании руководящих разъяснений и рекомендаций для судей вслед за Конституционным Судом Российской Федерации опирается на новые принципы осуществления правосудия, появившиеся в системе принципов в связи с ратификацией Конвенция и работа ЕСПЧ. Пункт 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1919 г.50 и протоколы к нему» от 27.06.2013 № 21, говорится, что если решение суда было исполнено на момент вступления в силу окончательного постановления Европейского Суда, в котором указывается, что это решение нарушило положения Конвенции или протоколов к ней, отмена такого решения по новым обстоятельствам в связи с указанным постановлением Европейского Суда имеет преимущественную силу над принципом правовой определенности».
Цель исследования
На основе анализа практики Европейского суда по правам человека, а также российской судебной практики выявить формы эволюционного изменения системы принципов правосудия и дать оценку терминологическому обозначению и содержанию конкретных принципов судопроизводства . Выделить в процессуальных отраслях российского права новые принципы, которые приобрели самостоятельное значение под влиянием европейских стандартов правосудия, в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Выделить в процессуальных отраслях российского права новые принципы, которые приобрели самостоятельное значение под влиянием европейских стандартов правосудия, в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Методы исследования
В исследовании использован системно-структурный подход к анализу изучаемого объекта, обусловленный применением ряда общенаучных методов (диалектико-материалистический, исторический), что позволило проследить эволюцию принципов судопроизводства; и специальные: формально-правовые, логические, сравнительно-правовые, позволившие проанализировать нормативное закрепление принципов в национальном законодательстве и нормах Конвенции о защите прав человека и основных свобод, формы их реализации в правоприменительной практике. Социологические методы, использованные в исследовании, включали наблюдение, анализ и синтез.
Выводы
Система принципов не статична, а постоянно трансформируется под воздействием различных факторов.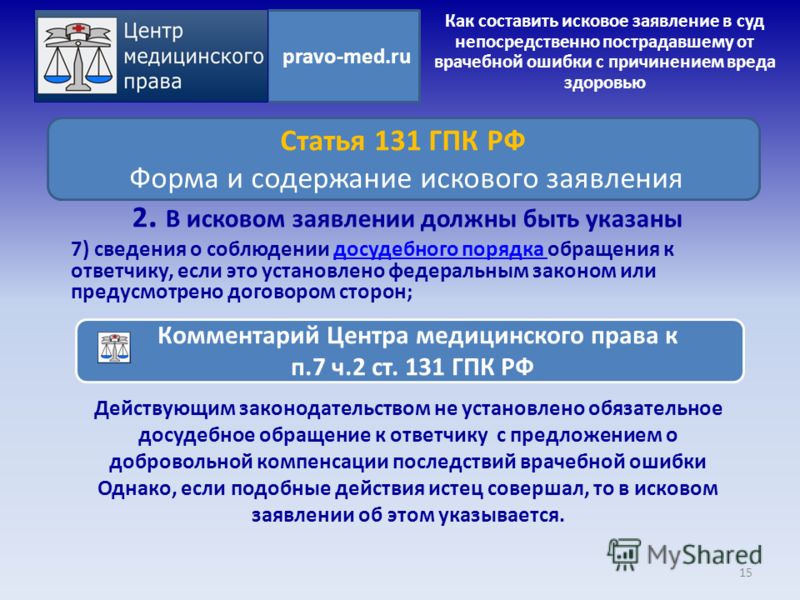 Одним из таких факторов является Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. В статье установлены формы трансформации системы процессуальных принципов с целью достижения соответствия требованиям современного общества, права и государства. Их предлагалось сгруппировать в три блока: 1) расширение сферы действия ряда принципов, существовавших в судопроизводстве, но не проявлявших себя в той мере, в какой это соответствует нормам Конвенции, а также изменение содержание и контекстуальное значение ранее существовавшего принципа, включая его терминологическое обозначение. В качестве примера можно указать принцип процессуального равенства и состязательности; 2) нивелирование действия тех процессуальных принципов, которые не укладываются в систему конвенциональных норм, поскольку были характерны только для гражданского судопроизводства советского периода. К этим принципам относятся принцип активной роли суда и принцип объективной истины. 3) появление новых принципов судопроизводства.
Одним из таких факторов является Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. В статье установлены формы трансформации системы процессуальных принципов с целью достижения соответствия требованиям современного общества, права и государства. Их предлагалось сгруппировать в три блока: 1) расширение сферы действия ряда принципов, существовавших в судопроизводстве, но не проявлявших себя в той мере, в какой это соответствует нормам Конвенции, а также изменение содержание и контекстуальное значение ранее существовавшего принципа, включая его терминологическое обозначение. В качестве примера можно указать принцип процессуального равенства и состязательности; 2) нивелирование действия тех процессуальных принципов, которые не укладываются в систему конвенциональных норм, поскольку были характерны только для гражданского судопроизводства советского периода. К этим принципам относятся принцип активной роли суда и принцип объективной истины. 3) появление новых принципов судопроизводства. В эту группу принципов входят принцип правовой определенности, принцип процессуальной экономии, принцип добросовестного распоряжения процессуальными правами.
В эту группу принципов входят принцип правовой определенности, принцип процессуальной экономии, принцип добросовестного распоряжения процессуальными правами.
Заключение
Трансформация системы принципов судопроизводства является закономерным процессом, обусловленным различными факторами. Важными катализаторами такой трансформации являются нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и постановления Европейского суда по правам человека, которые в совокупности представляют собой европейские стандарты правосудия. Воздействие этих факторов привело к трансформации существующих процессуальных принципов в систему, устранению несоответствующих принципов Конвенции и появлению новых принципов судопроизводства. Активное использование новых принципов судопроизводства в судебной практике свидетельствует о трансформации всей системы процессуальных принципов и о новом этапе эволюционного развития этой стратегической составляющей.
Ссылки
- Алексеев С.
 С. (2008). Общая теория права. Москва: ТК Велби, просп.
С. (2008). Общая теория права. Москва: ТК Велби, просп. - Баловнев, М. А. (2017). Определение злоупотребления процессуальными правами как обязательное условие эффективного противодействия недобросовестному поведению. Арбитраж и гражданское судопроизводство, 2, 14–18.
- Буснелли, Ф. Д., Команде, Г., и Кузи, Х. (2000). Принципы европейского деликтного права. Лондон: Кавендиш Паблишинг Лимитед.
- Хаферкамп, HP (2011). Die Heutige Rechtsmissbrauchslehre. Ergebniss nationalsozialistischen Rechtsdenks? Берлин, Верл. Шпиц: Баден-Баден, Номос-Верл.-Гес.
- Лаузикас, Э., Некропиус, В., и Микеленас, В. (2003). Гражданский процесс. Вильнюс: Юстиция.
- Максуров А. А. (2018). Координация правовых систем стран Европы, часть I. Москва: Руснаука.
- Мусин В.А. (2015). Принцип правовой определенности на современном этапе судебной реформы.


 С. (2008). Общая теория права. Москва: ТК Велби, просп.
С. (2008). Общая теория права. Москва: ТК Велби, просп.