Пленум верховного суда РФ по ст. 105 УК РФ \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Пленум верховного суда РФ по ст. 105 УК РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу Пленум верховного суда РФ по ст. 105 УК РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Судебный процесс:
- Административный истец
- Апеллянт
- Апелляционная жалоба на решение районного суда
- Апелляционная жалоба по электронной почте
- Апелляционная инстанция
- Ещё…
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 108 «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление» УК РФ»По смыслу уголовного закона, наличие в действиях виновного признаков превышения пределов необходимой обороны, т. е. смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 108 УК РФ, исключает возможность его привлечения к уголовной ответственности по статье 105 УК РФ (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ))».»
е. смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 108 УК РФ, исключает возможность его привлечения к уголовной ответственности по статье 105 УК РФ (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ))».»
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 105 «Убийство» УК РФ»Таким образом, в нарушение ч. 1 ст. 53 УК РФ и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации суд при назначении осужденному ограничения свободы в качестве дополнительного наказания по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ назначил только срок ограничения свободы, не установив предусмотренных законом обязательных ограничений и обязанности, то есть фактически не назначил ему дополнительное наказание за данное преступление, в связи с чем данное наказание не может считаться назначенным.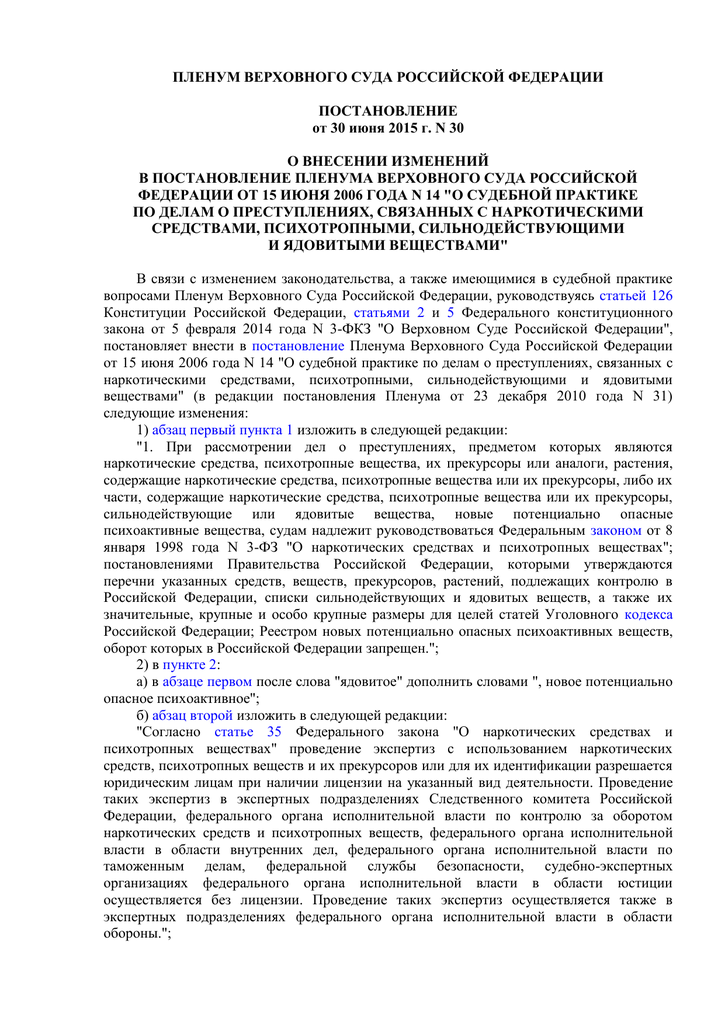 «
«
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Хулиганские побуждения в преступлениях против жизни и здоровья
(Гостькова Д.Ж.)
(«Уголовное право», 2018, N 2)В п. 12 Постановления от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» Пленум Верховного Суда РФ высказал позицию о недопустимости вменения хулиганских побуждений при наличии иных установленных мотивов, таких, например, как месть, ревность, личная неприязнь и т.п. Квалификация преступления, совершенного из хулиганских побуждений, одновременно по указанным выше мотивам невозможна, поскольку только один мотив может быть признан доминирующим в поведении виновного лица .
Законодательство о необходимой обороне в России.
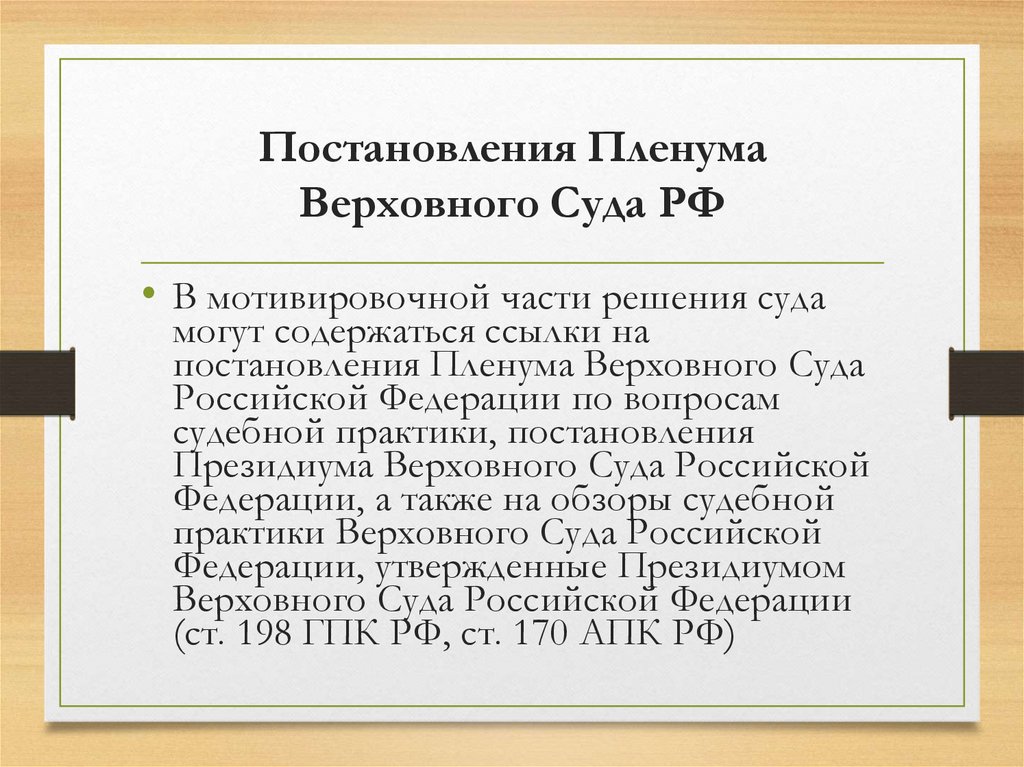 История и статистика
История и статистика31 мая, 12:50
ТАСС-ДОСЬЕ. 31 мая пленум Верховного суда России опубликовал разъяснения о порядке применения законодательства о необходимой обороне. Пленум постановил, что жильцы имеют право на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье, даже если это не сопровождается насилием или угрозой его применения. Также уточнено положение о том, что состояние необходимой обороны возникает до момента начала преступного посягательства при наличии его реальной угрозы.
Об истории правоприменения в России законодательства о необходимой обороне — в материале ТАСС.
История
В истории российского права необходимая оборона (в обиходе также употребляется термин «самооборона») присутствовала с самого первого уголовного кодекса — Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Там этому вопросу были посвящены статьи 107-109. Статья 107 документа формулировала, что обороняющемуся не вменяется в вину причинение ран, увечий или смерти нападающему, если тот сам угрожал жизни, здоровью или свободе обороняющегося. Отдельно в статье 108 было прописано, что оборона является необходимой при посягательстве на целомудрие и честь женщины. В статье 109 говорилось, что необходимая оборона дозволяется не только для своей защиты, но и защиты других.
Отдельно в статье 108 было прописано, что оборона является необходимой при посягательстве на целомудрие и честь женщины. В статье 109 говорилось, что необходимая оборона дозволяется не только для своей защиты, но и защиты других.
В следующем кодексе, Уголовном уложении 1903 года, необходимой обороне были посвящены статьи 45-46, причем в нем впервые было введено понятие «превышения пределов обороны». При убийстве нападавшего при превышении необходимой обороны статья 459 подразумевала заключение на срок не свыше одного года, а при весьма тяжком или тяжком телесном повреждении — арест (без уточнения длительности).
Неизменной по сравнению с царским уложением 1903 года норма осталась и в первом Уголовном кодексе РСФСР 1922 года (статьи 19, 145).
Уголовный кодекс РСФСР 1926 года в первой редакции к причинам необходимой обороны также добавил «посягательства на советскую власть и революционный порядок» (статья 13), причем в документе они были указаны перед статьей о защите личности обороняющегося.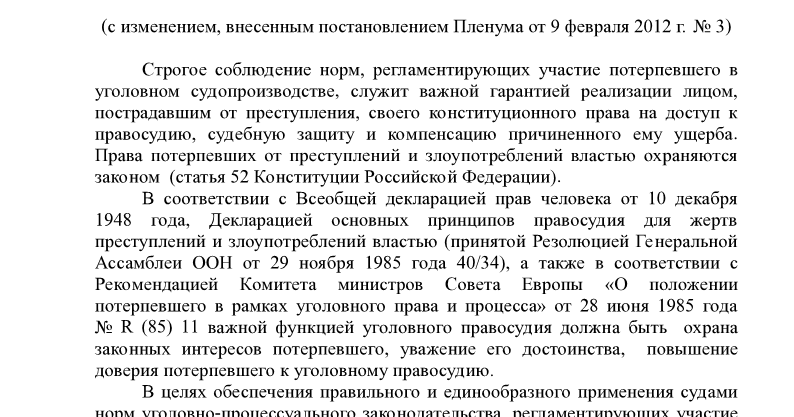 Кодекс 1926 года уравнивал убийство в результате превышения необходимой обороны с убийством по неосторожности и предусматривал наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до года.
Кодекс 1926 года уравнивал убийство в результате превышения необходимой обороны с убийством по неосторожности и предусматривал наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до года.
В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года (действовал в России до 1 января 1997 года) формулировки, касающиеся необходимой обороны, в целом напоминали кодекс 1926 года (статья 13). Убийство при превышении пределов необходимой обороны наказывалось лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же срок (ст. 105), а тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение — лишением свободы на срок до года или исправительными работами на тот же срок (ст. 111).
Уже в советский период правоприменение в области самообороны вызывало сложности, пленум Верховного суда СССР неоднократно (1956, 1969, 1984) принимал постановления по этому вопросу. В частности, в оценках, данных высшей советской судебной инстанцией в 1984 году, говорилось, что суды часто «ошибочно исходят из того, что лицо, подвергшееся нападению, не вправе активно защищаться, если имеет возможность спастись бегством или обратиться за помощью», а также учитывают лишь тяжесть причиненного вреда нападавшему, не принимая во внимание характер и опасность посягательства.
Современное законодательство
Согласно пункту 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. При этом часть 3 статьи 17 основного закона подчеркивает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
В Уголовном кодексе (УК) РФ от 13 июня 1996 года (действует с 1 января 1997 года) необходимой обороне посвящена статья 37. Согласно ей, причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны не является преступлением.
Второй пункт статьи при этом вводит понятие превышения пределов необходимой обороны — «умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства». Таким образом, обороняющийся должен оценивать степень опасности при принятии мер защиты.
Поправками в УК РФ от 8 декабря 2003 года в статью был введен подраздел 1 пункта 2, которым уточнялось, что действия обороняющегося лица не являются превышением пределов необходимой обороны, если это лицо не может из-за неожиданности оценить объективно опасность нападения.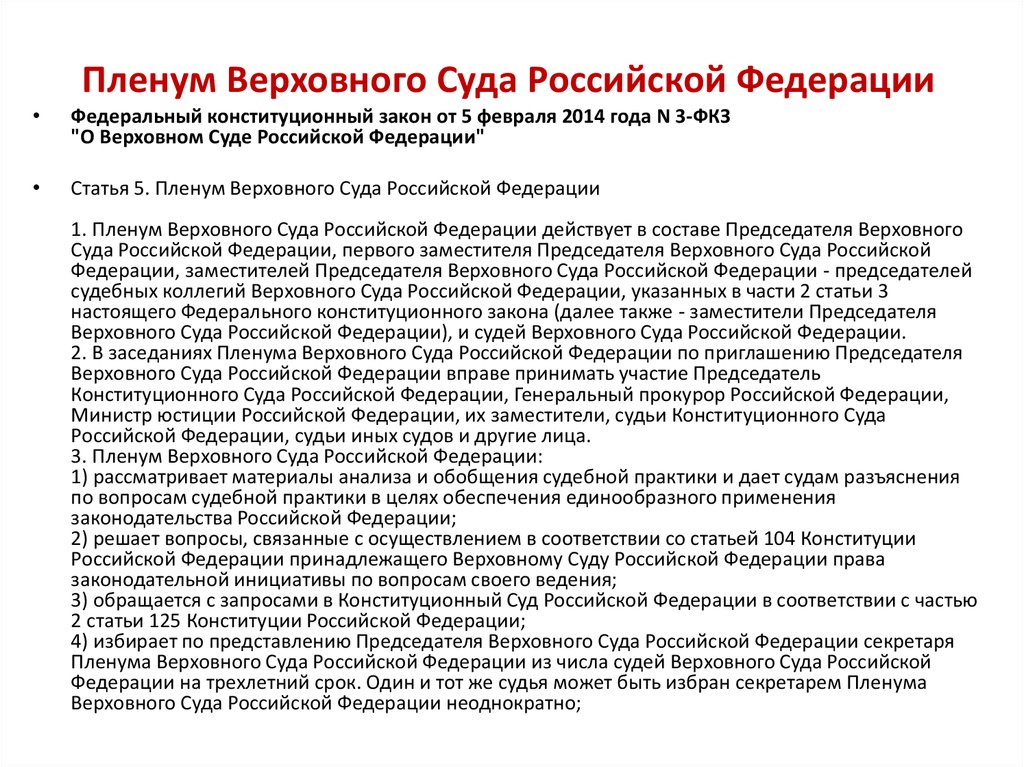
27 июля 2006 года в статью 37 УК РФ было внесено еще одно уточнение, согласно которому положения статьи о необходимой обороне распространялись на всех лиц, «независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения», а также от того, мог ли обороняющийся обратиться за помощью к другим лицам, органам власти или избежать самого посягательства.
Часть 1 статьи 108 УК РФ предусматривает наказание за убийство, совершенное при превышении необходимой обороны — лишение свободы, исправительные работы, ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет. Часть 1 статьи 114 назначает такие же наказания сроком до одного года при причинении нападавшему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.
Пункт «ж» статьи 61 УК РФ уточняет, что совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны в любом случае является смягчающим обстоятельством.
Гражданский кодекс РФ (ч. 2 ст. 1066) при этом регламентирует, что вред, причиненный при необходимой обороне, возмещению не подлежит.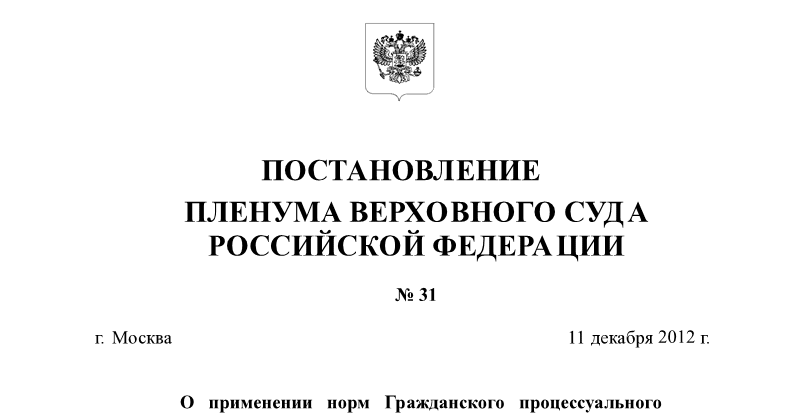
Проблемы правоприменения
Судебная практика в области самообороны сталкивалась с большим числом спорных случаев, когда суды отказывались признавать действия оборонявшихся необходимой обороной или считали их превышением ее пределов.
Среди наиболее громких таких случаев было дело москвички Александры Иванниковой, которая в 2003 году ударила ножом таксиста Сергея Багдасаряна, который пытался ее изнасиловать. В результате ранения Багдасарян скончался. Следствие изначально пыталось вменить Иванниковой умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности, затем убийство в состоянии аффекта. В июне 2005 года Иванникова была приговорена к двум годам лишения свободы. 4 июля 2005 года Мосгорсуд отменил обвинительный приговор, и только после этого прокуратура согласилась, что потерпевшая действовала правомерно в рамках самообороны.
Также широкий резонанс получило дело сестер Хачатурян, которые неоднократно подвергались насилию со стороны своего отца и в 2018 году убили его, после чего стали фигурантами уголовного дела и были обвинены в убийстве по предварительному сговору. Адвокаты сестер настаивают, что их подзащитные действовали в рамках необходимой обороны. В 2021 году дело было возвращено в прокуратуру.
Адвокаты сестер настаивают, что их подзащитные действовали в рамках необходимой обороны. В 2021 году дело было возвращено в прокуратуру.
Начиная с 1984 года и до 31 мая 2022 года пленум Верховного суда РФ принял лишь один документ, касающийся самообороны, — постановление «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступления» от 27 сентября 2012 года. В частности, постановление уточняло, что к посягательствам, при которых допустима самооборона, относятся деяния, не связанные непосредственно с опасностью для жизни, в том числе повреждение имущества. Судам указывалось, что если при посягательстве обороняющийся отнимет оружие у нападавшего, это не означает, что посягательство закончено, и дальнейшие действия обороняющегося все равно можно считать необходимой обороной.
29 января 2022 года по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин рекомендовал Верховному суду обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны, а также подготовить по итогам обобщения соответствующие разъяснения.
Также существовали законодательные инициативы о расширении границ необходимой обороны. Например, в феврале 2022 года депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направили в Верховный суд и правительство законопроект, согласно которому граждане могли защищать свое жилища от проникающих в него лиц любым возможным способом, не оценивая характер насилия и угрозы. 12 мая 2022 года правительство дало на законопроект отрицательный отзыв.
Статистика
Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2021 году за убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ) судами было осуждено 248 лиц, оправдан только один человек. В отношении 24 лиц уголовные дела по этой статье были прекращены.
За причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114) было осуждено 412 человек, никто оправдан не был. В отношении 349 лиц уголовное дело по этой статье было прекращено.
Теги:
Россия
Экспертиза в российских судах – Загадка Россия
В 2012 году Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) при обсуждении недостатков ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» обратила внимание на то, что «при отсутствии четкие критерии в Законе, оставлены слишком широкие пределы усмотрения и субъективизма как в части оценки материала, так и в отношении соответствующей судебной процедуры».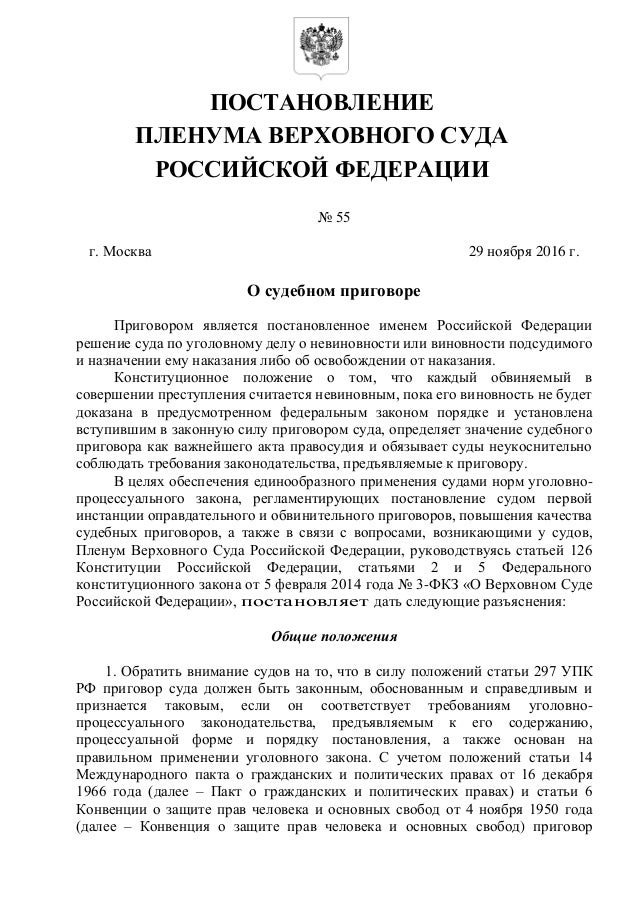
Проблемы с экспертизой в российских судах
В российском публичном пространстве постоянно поднимается вопрос экспертизы, призванной определить, является ли тот или иной текст (или изображение) «экстремистским». Одной из важнейших гарантий обоснованности показаний эксперта в суде является беспристрастность эксперта, который должен быть свободен от давления со стороны инициаторов дела и, следовательно, заинтересованных в том, чтобы эксперт давал предсказуемые ответы на поставленные вопросы.
В России экспертизы проводятся по поручению Минюста (Российским федеральным центром судебной экспертизы и региональными лабораториями Минюста), ФСБ России (региональные криминалистические лаборатории), Минюста органов внутренних дел (центры судебно-медицинской экспертизы) и, в последнее время, Следственного комитета (СК) (пока создан только центральный экспертно-криминалистический центр СК).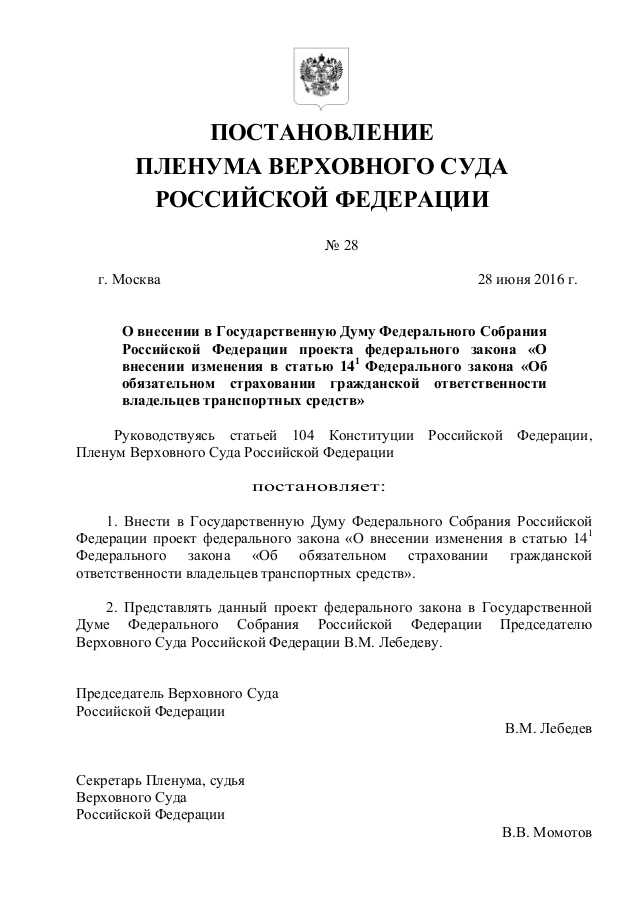
Юристы сомневаются в том, что эксперты, аффилированные с правоохранительными органами, могут считаться независимыми. То же самое касается образовательных учреждений. В 2018 году, например, Александр Панченко, тогда профессор СПбГУ, был уволен после подписания альтернативного официального экспертного заключения по делу о запрете книг пастора Бранхама. Кроме того, известны случаи давления правоохранительных органов на руководство академических и образовательных учреждений с целью получения необходимых экспертных заключений. В этих условиях страдает не только институт независимой экспертизы, но и качество предоставляемых экспертных заключений.
Различные экспертные ассоциации потенциально могут улучшить качество работы экспертов. Примеры включают GLEDID (Гильдия лингвистов-экспертов по документальным и информационным спорам), недавний проект Amicus Curiae и проект Dissernet, который публикует обзоры наиболее противоречивых мнений экспертов. Российские власти неоднократно предлагали государственную систему лицензирования такой экспертной деятельности, что еще больше скомпрометировало бы независимую экспертизу.
Российские власти неоднократно предлагали государственную систему лицензирования такой экспертной деятельности, что еще больше скомпрометировало бы независимую экспертизу.
Еще одним важным вопросом является роль судебной экспертизы в российском антиэкстремистском процессе. В таких случаях экспертов просят выявить признаки языка ненависти в исследуемых текстах или изображениях. Как правило, в качестве экспертов в таких случаях привлекаются лингвисты и психологи. «Экспертные баталии», начиная с расследований возбуждения вражды и ненависти, начиная с 1990-х до процессов об «оскорблении чувств верующих» в 2000-х, вызвали дискуссию о профессиональных стандартах экспертизы в России.
Еще одной серьезной проблемой является неравный статус экспертизы и экспертизы: если экспертиза производится «экспертом» по поручению следствия или суда, то экспертиза проводится профессионалом, как правило, по требованию защиты. Экспертиза приобщается к материалам дела (и чаще всего дело возбуждается на ее основании), а экспертиза проводится защитой и чаще всего рассматривается судом в составе «иных доказательств».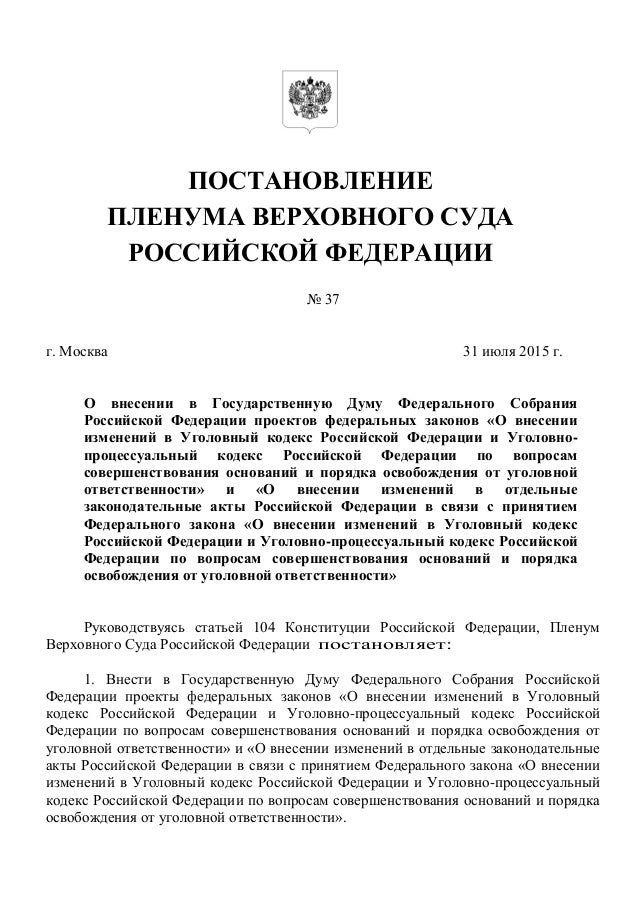 Этот дисбаланс был частично устранен в 2010 году, когда Верховный суд предоставил специалистам право участвовать в оценке профессиональной составляющей экспертных заключений, используемых в качестве доказательств в суде. Однако чаще всего суды игнорируют критику, содержащуюся в экспертных заключениях, и предпочитают не подрывать профессионализм и объективность экспертных заключений. Остались нерешенными и другие проблемы с экспертами – прежде всего пересечение границы и ответы на юридические вопросы. Это относится к ситуациям, когда эксперты обращаются к юридическим вопросам, например, содержат ли тексты «призывы к экстремизму», хотя это должен определить суд. Кроме того, высокая степень правовой неопределенности (т.е. неясность, нечеткость и несоответствие самого законодательства) позволяет следствию и экспертам, представляющим сторону обвинения, широко толковать положения законодательства.
Этот дисбаланс был частично устранен в 2010 году, когда Верховный суд предоставил специалистам право участвовать в оценке профессиональной составляющей экспертных заключений, используемых в качестве доказательств в суде. Однако чаще всего суды игнорируют критику, содержащуюся в экспертных заключениях, и предпочитают не подрывать профессионализм и объективность экспертных заключений. Остались нерешенными и другие проблемы с экспертами – прежде всего пересечение границы и ответы на юридические вопросы. Это относится к ситуациям, когда эксперты обращаются к юридическим вопросам, например, содержат ли тексты «призывы к экстремизму», хотя это должен определить суд. Кроме того, высокая степень правовой неопределенности (т.е. неясность, нечеткость и несоответствие самого законодательства) позволяет следствию и экспертам, представляющим сторону обвинения, широко толковать положения законодательства.
В результате того, что суд опирается на содержание и выводы, представленные в экспертных заключениях, «научные» концепции смешиваются не только с идеологически обоснованными теориями, такими как геополитика, но и с откровенно антинаучными теориями (такими как нейролингвистическое программирование) и даже с теориями заговора.
Критика со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)
Вопрос о непрофессионализме и необъективности, характерных для российской экспертизы в суде, поднимался в ряде постановлений ЕСПЧ. Можно вспомнить, например, дело Матыцина против России
 ЕСПЧ отметил, что незаконный отказ судов признать экспертные заключения и другие произвольные действия судов в отношении этих заключений, когда они не соответствовали аргументации обвинения, прямо нарушили статью 6 § 1 Европейской конвенции о Права человека (ЕКПЧ).
ЕСПЧ отметил, что незаконный отказ судов признать экспертные заключения и другие произвольные действия судов в отношении этих заключений, когда они не соответствовали аргументации обвинения, прямо нарушили статью 6 § 1 Европейской конвенции о Права человека (ЕКПЧ). По делу Станислав Дмитриевский (2017) против России правозащитник из Нижнего Новгорода был осужден за публикацию публичных заявлений чеченских сепаратистов Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева. ЕСПЧ обратил внимание на то, что эксперт-лингвист в данном случае ответил на юридические вопросы и тем самым встал на место суда. ЕСПЧ также отметил, что российские судьи не оценили те самые заключения, в которых эксперт Лариса Тесленко явно выходила за рамки чисто языковых вопросов (например, она утверждала, что Дмитриевский «разжигал рознь и ненависть» в отношении социальных групп, называя их «руководство Российской империи» и «безумный, кровожадный кремлевский режим») и, по сути, эксперт оценил действия заявителя с правовой точки зрения.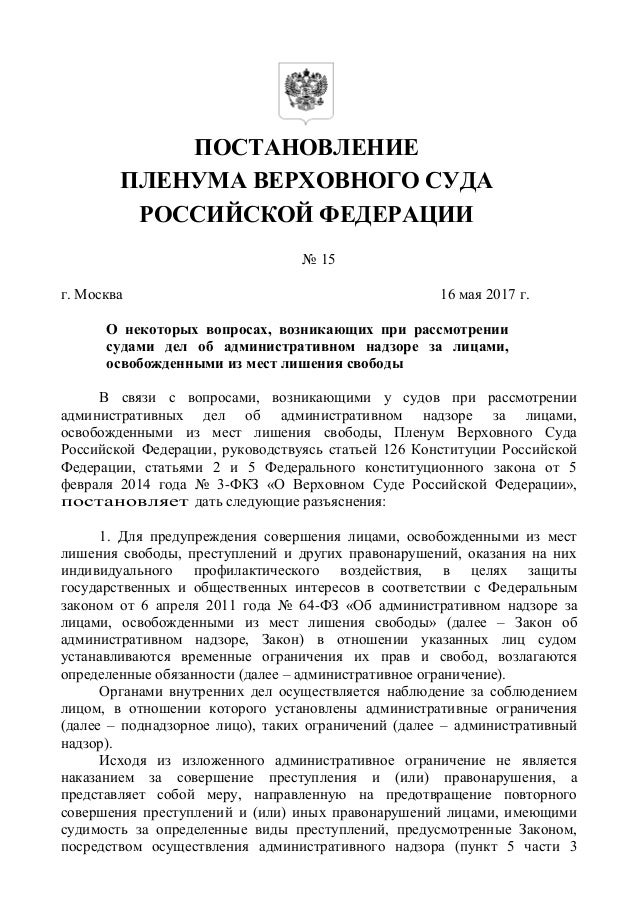
В деле Ибрагим Ибрагимов и другие против России (2018 г.), которое касалось судебного обжалования запрета книг исламского богослова Саида Нурси, изданных в России, ЕСПЧ также обратил внимание на то, что решения российских судов основывались на выводах лингвиста и психолога и игнорировали мнение религиоведов. При этом утверждения о разжигании розни не подкреплялись фактическими цитатами, а один из российских судей признал, что вообще не читал книгу и доверяет цитатам, подобранным экспертами обвинения.
Эти решения ЕСПЧ подчеркивают основные недостатки, существующие в российском законодательстве в отношении использования экспертиз и доказательств: решение экспертом правовых вопросов, отказ суда в проверке содержания обсуждаемых заключений и перепрофилирование этой роли на эксперта . В результате ответы эксперта на юридические вопросы дальнейшему обсуждению не подлежат; они влияют на судебные решения и подрывают их качество.
Ответ на критику
Вопрос экспертизы в суде достаточно серьезно обсуждался в постановлении, опубликованном Верховным судом в 2011 году. В документе говорилось, что эксперт не может отвечать на юридические вопросы и что лингвистические экспертизы должны ориентироваться на смысл текста, а эксперты в других областях гуманитарными науками могли заниматься при необходимости. Важно отметить, что в этом постановлении также упоминалась роль специалистов, которые могли бы помочь защите в оценке научной составляющей экспертных заключений, подготовленных обвинением.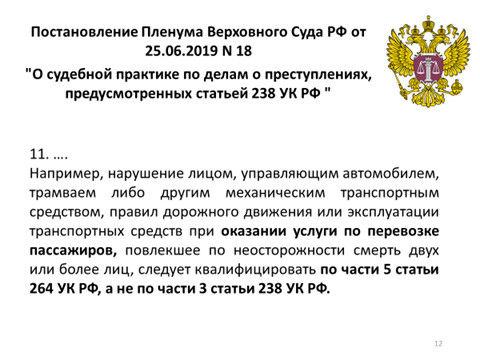
В 2018 году Верховный суд уточнил, что «при оценке показаний экспертов по делам, связанным с экстремизмом, суды должны иметь в виду, что они не являются судебным заключением». Соответственно, вопрос о том, является ли то или иное сообщение экстремистским, должен решать суд. Эта поправка следует за решениями ЕСПЧ.
29 июня 2021 года Пленум Верховного Суда внес изменения в свое постановление, указав, что «в случае, если заключение эксперта содержит выводы о правовой оценке деяния или достоверности показаний, представленных проверяемыми лицами, оно не может быть признано допустимым». доказательства в этой степени». В то же время Верховный суд убрал из постановления все упоминания о возможности привлечения специалистов «для оказания помощи в оценке заключения и допросе эксперта» (т.е. для проверки экспертных показаний). Это лишает защиту достаточно важного инструмента отстаивания своей правовой позиции, хотя сохраняется возможность предоставления альтернативного экспертного заключения по оспариваемым материалам. Взамен защита получает лишь дополнительный запрет задавать экспертам юридические вопросы. Этот запрет существовал и раньше, но не мешал следствию или суду задавать подобные вопросы.
Взамен защита получает лишь дополнительный запрет задавать экспертам юридические вопросы. Этот запрет существовал и раньше, но не мешал следствию или суду задавать подобные вопросы.
Развитие в области экспертизы в суде можно считать неудачей: постановление 2010 г. несколько улучшило ситуацию с привлечением экспертов защиты к обсуждению научной обоснованности экспертных заключений, тогда как более поздние поправки переломили эту тенденцию. Эксперты теперь не могут оценить научное содержание экспертного заключения, подготовленного стороной обвинения. Это еще более усложняет положение защиты и явно нарушает принцип состязательности.
В прошлом, хотя заключения экспертов не всегда влияли на исход дела, они могли использоваться в апелляционной, кассационной инстанциях и для ЕСПЧ в качестве независимой оценки научной составляющей экспертных доказательств. В ответ на критику ЕСПЧ Верховный суд подтвердил недопустимость обсуждения правовых вопросов в экспертных заключениях, но фактически исключил из процесса специалистов, то есть тех, кто давал защите критические оценки экспертных заключений. Суды теперь должны оценивать научную составляющую экспертного заключения самостоятельно, поскольку не могут привлекать для этой цели специалистов. В итоге это приведет к увеличению количества непрофессиональных и необъективных экспертных заключений.
Суды теперь должны оценивать научную составляющую экспертного заключения самостоятельно, поскольку не могут привлекать для этой цели специалистов. В итоге это приведет к увеличению количества непрофессиональных и необъективных экспертных заключений.
Что могло бы улучшить ситуацию в этом аспекте отправления правосудия? Шагом в правильном направлении было бы возвращение к праву ознакомления с экспертными заключениями, предусмотренному в предыдущих редакциях постановления Верховного Суда РФ. Кроме того, должен применяться минимальный научный стандарт, как это имеет место в ряде других стран.
Международные стандарты и российская практика
В 1923 году спор в Соединенных Штатах по поводу применимости сомнительных результатов полиграфа в суде привел к стандарту, получившему свое название от человека, обвиненного в убийстве на основании показаний, проверенных «детектором лжи». С тех пор стандарт Фрая (или общепринятый тест для научных доказательств) требует, чтобы научное мнение, представленное в суде в качестве доказательства, было общепринято значительной частью научного сообщества. Это относится к порядку, принципам и методам расследования, результаты которого используются в качестве доказательств в суде. В практическом смысле речь идет о том, что в ситуации, когда выводы того или иного экспертного заключения ставятся под сомнение, сторона, предоставляющая его в суде, должна доказать, что принятый подход является научным и что за ним стоит прочная научная традиция. Это. С тех пор стандарт Фрая был заменен стандартом Даубера, который требует, чтобы судьи проверяли доказательства экспертов на соответствие следующим критериям, прежде чем принять их:
Это относится к порядку, принципам и методам расследования, результаты которого используются в качестве доказательств в суде. В практическом смысле речь идет о том, что в ситуации, когда выводы того или иного экспертного заключения ставятся под сомнение, сторона, предоставляющая его в суде, должна доказать, что принятый подход является научным и что за ним стоит прочная научная традиция. Это. С тех пор стандарт Фрая был заменен стандартом Даубера, который требует, чтобы судьи проверяли доказательства экспертов на соответствие следующим критериям, прежде чем принять их:
- Методика или теория эксперта может быть проверена и оценена на надежность (принцип верификации).
- Методика или теория были подвергнуты рецензированию и публикации (принцип научного признания).
- Потенциальная частота ошибок метода или теории известна (принцип частоты ошибок).
В правовых системах ЕС, более близких к российской, существуют аналогичные положения об оценке экспертных заключений с точки зрения профессионализма и научной обоснованности. В Нидерландах, например, суды должны определить, способен ли эксперт провести соответствующую экспертизу, какие методы он применил, в какой степени методы и выводы надежны и насколько компетентен эксперт в применении метода. они указали. Во Франции достоверность выводов эксперта оценивается с точки зрения профессиональных качеств эксперта (умение рассматривать дело и понимание своей роли в судебном разбирательстве, профессиональная беспристрастность, компетентность) и надежности применяемых методов.
В Нидерландах, например, суды должны определить, способен ли эксперт провести соответствующую экспертизу, какие методы он применил, в какой степени методы и выводы надежны и насколько компетентен эксперт в применении метода. они указали. Во Франции достоверность выводов эксперта оценивается с точки зрения профессиональных качеств эксперта (умение рассматривать дело и понимание своей роли в судебном разбирательстве, профессиональная беспристрастность, компетентность) и надежности применяемых методов.
Очень похожие стандарты описаны в рекомендациях для российских судей, но научная составляющая представлена только категорией «научная обоснованность». Что касается экспертных показаний, то сам Пленум Верховного Суда в 2010 г. определил, что необходима оценка научной обоснованности методики экспертизы, граничных условий ее применения, допустимости выбранной методики в конкретном случае. Основная проблема заключается в том, что содержание этой процедуры оценки не описано в постановлении Пленума.
В России, в отличие от всех приведенных выше международных примеров, отсутствует этап, связанный с оценкой научной обоснованности экспертных заключений. Этот этап предшествует судебному разбирательству, и именно на этом этапе суд может отклонить доказательства как не прошедшие тест на научную достоверность. В случае российского судопроизводства этот процесс является частью обсуждения доказательств, и предполагается, что суд в ходе судебного разбирательства рассматривает требуемые параметры: научную значимость методики экспертизы, ее допустимость и граничные условия для ее применение. В ситуации прямого запрета на участие эксперта в этом процессе научная составляющая экспертизы подлежит обсуждению прокурором, защитником и судьями, т.е. лицами, не обладающими экспертными знаниями в данной области. под обсуждением. Кроме того, мало реальных дел, в которых суд серьезно обсуждал научную составляющую экспертного заключения.
Единственным удачным примером отмены в суде научно необоснованного заключения эксперта является дело о частном постановлении в отношении эксперта Федяева, которого добились адвокаты Андрей Сабинин и Александр Попков в краснодарском суде: им удалось доказать, что эксперт заключение, подготовленное экспертом от имени краснодарского МВД, не было научно обоснованным. Однако, несмотря на постановление о привлечении к ответственности Федяева, он продолжает работать в своей должности.
Однако, несмотря на постановление о привлечении к ответственности Федяева, он продолжает работать в своей должности.
Единственным выходом является введение института досудебной оценки допустимости экспертных заключений (по типу стандартов Фрая или Добера): в таком случае защита как минимум сможет реагировать на откровенно -научные или предвзятые экспертные заключения.
*Эта статья входит в серию «Реформы», подготовленную Riddle совместно с проектом Reforum.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 16 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПОВРЕЖДЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА»: РЕШЕНИЕ ИЛИ НОВАЯ ИЗДАНИЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Бизнес в юриспруденции Выпуск №2 — 2015
Поезжалов Владимир Борисович Линкевич Александр Евгеньевич
Подробнее об авторах
Поезжалов Владимир Борисович. начальник кафедры профессиональной подготовки, канд. юрид. наук, доцент
начальник кафедры профессиональной подготовки, канд. юрид. наук, доцент
Уфимский юридический институт МВД России Линкевич Александр Евгеньевич
начальник кафедры управления в ОВД, канд. соц. наук
Уфимский юридический институт МВД России
Чтобы прочитать статью полностью, пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
Abstract:
Задача: поводом для написания статьи явилось принятие нового постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половых свобода человека». Методы: методологическую основу работы составляют диалектический метод научного познания, а также следующие специальные методы: исторический, юридический, логический, систематический, догматический и сравнительно-правовой. Выводы: в статье выражены оценочные суждения и рекомендации, направленные на преодоление существующих трудностей и пробелов в правоприменительной практике в отношении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Практическая значимость: заключается в том, что в работе рекомендации по надлежащей квалификации ряд вопросов не отражены в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации. Оригинальность работы: определяет системный подход к рассмотрению и решению проблем, возникающих в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях». против половой неприкосновенности и половой свободы личности». Ценность: данная статья ориентирована на преподавателей юридического факультета, аспирантов, адъюнктов, соискателей и студентов, интересующихся вопросами уголовного права и квалификации преступлений, а также сотрудников полиции, прокуроров и судей
Практическая значимость: заключается в том, что в работе рекомендации по надлежащей квалификации ряд вопросов не отражены в разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации. Оригинальность работы: определяет системный подход к рассмотрению и решению проблем, возникающих в связи с принятием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях». против половой неприкосновенности и половой свободы личности». Ценность: данная статья ориентирована на преподавателей юридического факультета, аспирантов, адъюнктов, соискателей и студентов, интересующихся вопросами уголовного права и квалификации преступлений, а также сотрудников полиции, прокуроров и судей
Образец цитирования:
Поезжалов В.Б., Линкевич А.Е., (2015), ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 16 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СЕКСУАЛЬНОЙ НЕПРЕСТУПЛЕННОСТИ И СЕКСУАЛЬНОЙ НЕПРЕСТУПЛЕННОСТИ» »: РЕШЕНИЕ ИЛИ НОВОЕ ИЗДАНИЕ ДОСТУПНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ. Бизнес в праве, 2 => 166-169.
Бизнес в праве, 2 => 166-169.
Референс-лист:
1. Бадамшин И.Д., Диваева И.Р., Поезжалов В.Б. Уголовно-правовая характеристика способов оскорбления // Черные дыры в Российском законодательстве. 2010. № 5.
2. Бадамшин И.Д., Поезжалов В.Б. Восстановление социальной справедливости как цель наказания // Пробы в российском законодательстве. 2013. № 2.
3. Галиакбаров Р.Р. Бор ба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар, 2000.
4. Кантемирова К.Х. Теоретические и практические проблемы квалификации половых нарушений // Российский следователь. 2007. № 13.
5. Кахний М. В. Соотношение изнасилования и полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста // Вопросы ювенальной юстиции. 2007. № 5.
6. Коняхин В. П. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: уголовно-правовой анализ // Уголовно-правовые, пенитенциарные принципы и их реализация: правотворческий, правоприменитель: всерос. науч.-практ. конф. В 2 в.п. Ч. 1. Саратов, 2005.
науч.-практ. конф. В 2 в.п. Ч. 1. Саратов, 2005.
7. Костырев В.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: курс лекций. Уфа, 2000.
8. Линкевич А.Е., Поезжалов В.Б. Некоторые проблемные аспекты, связанные с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации о необходимой обороне // Вестник ВЭГУ. 2013. № 4.
9. Настольная книга суда и по уголовным делам / отв. красный. А.И. Рарог. М., 2007.
10. Нуркаева Т.Н. О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы и половой непричинности личности // Уголовное право. 2014. № 5.
11. Поезжалов В.Б., Диваева И.Р. Проблемы законодательной регламентации и квалификации преступлений против половой непричастности и половой свободы личности // Евразийский юридический журнал. 2012. № 6.
12. Поезджалов В.Б., Николаева Т.В. 2014. № 2.
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 О судебной практике по делам о преступлениях против половой непричастности и половой свободы личности // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2.
2015. № 2.
14. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / отв. красный. Р.А. Сабитов. Тюмень, 2013
Ключевые слова:
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, квалификация, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
9. Права и свободы человека и гражданина, гарантии их обеспечения Страницы: 149-151 Выпуск №7176
ПОНЯТИЯ И ВИДЫ УГРОЗ ПРИ ИЗНАСИЛОВАНИИ
Теймуршахов Теймур Н.
изнасилование угроза физическое насилие закон убийство
Показать больше
8. Судебная экспертиза; судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность Страницы: 168-171 Вопрос №5215
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аминев Фарит Г.
судебная экспертиза судебно-экспертное учреждение эксперт сертификация компетенция
Показать больше
12. Судебная экспертиза; судебная экспертиза; оперативно-розыскные мероприятия; Уголовно-процессуальные Страницы: 215-218 Вопрос №6841
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
Аминев Фарит Г.
специальные знания судебная организация судебно-медицинская экспертиза эксперт сертификация
Подробнее
11. Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право Страницы: 179-181 Вопрос №3758
О соотношении постановлений Пленума Верховного Суда и принципа действия уголовного закона во времени
Решняк Мария Генриховна
закон законодательство принцип норма квалификация
Подробнее
7. Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право Страницы: 160-163 Выпуск №12615
Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право Страницы: 160-163 Выпуск №12615
Квалификация вандализма по объективной стороне преступления
Иванов Сергей Анатольевич
Матынай Михаил Арамович
Райбова Лилия Викторовна
вандализм преступление квалификация объективная сторона преступления общественный порядок
Подробнее
14. Судебная, прокурорская, правозащитная и правоохранительная деятельность Страницы: 182-185 Выпуск №15378
НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМ СУДЕБНОГО ЗАКОНА О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРИМИРИТЕЛЯ СУДЬЯ
Шигурова Елена Ивановна
Шигуров Александр Васильевич
судебная система судья по примирению юрисдикция суда примирение квалификация
Подробнее
14. Судебная, прокурорская, правозащитная и правоохранительная деятельность Страницы: 175-178 Выпуск №15378
Судебная, прокурорская, правозащитная и правоохранительная деятельность Страницы: 175-178 Выпуск №15378
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ СУД: ИЗ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ
Сушкова Юлия Николаевна
Шигурова Елена Ивановна
.3 3 Шигурова Елена Ивановна
.3
судебная система судья по примирению юрисдикция суда примирение квалификация
Подробнее
6. Криминология Страницы: 170-173 Выпуск №4748
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПОЛОВОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Ковтун Виктор Александрович
статистика динамика насильственные действия сексуального характера несовершеннолетние молодой
Подробнее
5.
